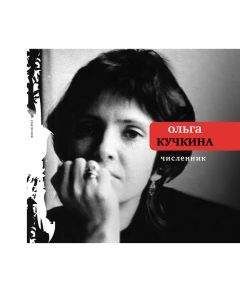Ольга Кучкина - В башне из лобной кости
— Лика, вы понимаете, что это значит?
— А вы?
У обеих нервный, почти истерический хохот по телефону.
— Все фуфло?
— Фуфло.
— А как вам записка из ФСБ? Идея ясна?
— Своих не сдаем.
— Но значит, в органы он все же попал?
— Может, да, а может, нет. У нас есть дата — 15 мая 1942 года. До этого числа он никуда на фронт не убегал и не уходил, а шил белье для красноармейцев на швейной фабрике. Это доказано документально. Дальше белое пятно. Будем узнавать или будем делать кино?
— Будем делать кино и одновременно узнавать.
— Каким образом? Если они своих не сдают?
— Не сдают официально. Существуют знакомые, знакомые знакомых и знакомые знакомых знакомых.
— У меня таких нет, у вас есть?
— Надо поискать.
— Лика, вы потрясающая соратница. Я позвоню Одоевской и Обручеву. То, что вы сделали…
— Пишите заявку и садитесь за сценарий, — оборвала соратница мои восторги, показав себя еще более потрясающей.
57
Мы ехали на дачу по куску заасфальтированного шоссе, буржуазно шуршавшего под колесами, шоссе называлось Трансатлантик Интернейшнл. Еще недавно выше улицы Фабричной наш поселок в своих притязаниях не поднимался. Впрочем, Фабричная как была, так и есть, со старой погнутой табличкой, углом к Трансатлантик Интернейшнл. Где тут поблизости, среди пыльных складов и ржавых ворот, что-то Атлантик, не говоря об Интернейшнл, вывести невозможно.
Лицо Толи возвращалось. Бледность не покинула его, но он перестал выглядеть мертвецом, а стал выглядеть, хотя и отдаленно, живым человеком. Зато правая рука приобрела совершенно ужасающий вид.
— Ты что, Толян, хочешь и впрямь потерять руку, когда ты пойдешь к врачу, сколько можно говорить?!
— В понедельник иду.
Понедельник был такой специальный день. В понедельник придут рабочие рыть яму, в понедельник будут ставить АГВ, в понедельник привезут гравий, в понедельник он пойдет к врачу. Мы уезжали в воскресенье вечером, и до следующей недели ничего не менялось.
— Ты понимаешь, что останешься инвалидом, и тебе тарелку некому будет подать?!
— Понимаю.
Кротость нашего Анатолия обезоруживала. Мягкая улыбка, ясный взор, пребывание в выдуманном мире, где все как один его ценят и уважают, а он, по возможности, бездельничает, сидит на лавке, пьет крепкий кофе, курит сигарету, смотрит телевизор и иногда рассказывает, какие, при его содействии, на нас, его окружающих, свалятся блага. Обезоруживало ли это молодую женщину, ежедневно рвущуюся к новой, отличной от вчерашней, жизни, женщину с запросами и скрытой энергией, бурлящей внутри и почти не выходящей наружу, — вот вопрос. Перегретые котлы рано или поздно взрываются.
— Я даже не разу не изменил ей, — жалуется Толя, и глаза его переполняются слезами.
Мои — тоже.
Мы никогда так обнаженно не беседовали. Беседы протекали по преимуществу хозяйственные или отвлеченные, веселые, про новости, но уж никак не про чувства. Да и кто теперь беседует про чувства, особенно в паре хозяин — работник. Не принято и неловко. Нам не то что ловко, а так есть. Он сейчас без кожи, и мы должны служить медицинской марлей с антибактерицидной мазью, чтобы помягче и поцелебнее. Мы и служили. Ужасно нелепо, что один человек так прилепляется ко второму, что нет ему без него жизни. Кругом масса людей — подходи не хочу. А он и не хочет. Никого. Исключительно этого. Ни грана маломальской объективности. И материальности. Писатель Саша Олихов говорит, что судьбу человека и судьбу этноса определяют фантомы. По-другому, грезы. Его излюбленный постулат. Он проводит его во всех романах и в публицистике тоже. Мне это близко. Я давно догадалась, что субъективное заведует объективным. Мысль — сгущение чувства. Вас задело чье-то высказывание — оно легло на ваш экзистенциальный опыт, пусть даже для вас темно само понятие, — вы пошли за оратором и его идеей, и вот вы уже активист в его отряде и крушите головы противникам. А кто-то услышал примерно то же — и никуда не пошел. В нашем с Толей случае: вы ощутили прохладу или жар — и поняли, что влюбились, вам вынь да положь этого человека. А кто-то взглянул на вашего избранника или избранницу — и с холодным носом прошел мимо. И до нас с Олиховым были люди, думавшие так же. Я подразумеваю написавших Книгу Бытия: В начале было Слово… То была не догадка, а знание. И хотя один авторитетный рок-певец смотрит на Книгу как на свод сказок, типа любых фольклорных сводов, мы с Сашей Олиховым смотрим иначе. Наслоения, заблуждения сделали так, что ограниченное и в то же время высокомерное человечество в массе своей пошло не туда. Ограниченность и высокомерие — родовые наши черты. Довольно взглянуть, для примера, на любого нашего силового или мирного министра, чтобы убедиться. Пример случайный. Но случай и заведует закономерностью. Так же, как слово. Медицинская марля с антибактерицидной мазью — слово. Или наоборот.
— Толь, может, тебе устроиться на работу, все веселее буде т.
— В понедельник иду устраиваться.
— А у тебя там от мамы не осталось самогону?
— Осталось.
— Тащи к ужину.
Бодрый тост, опрокинутый стаканчик с крепчайшей, пахнущей старым вишневым деревом прозрачной жидкостью — продержись, Толян, дальше будет легче, клянусь. И я бегло пересказываю ему свое прошлое, о котором молчу с другими много лет.
58
Голос у Одоевской напряжен и сух. В тех двух выражениях, что она успевает сложить как ответ на мое здравствуйте, как поживаете, проскальзывает обида старой девочки. Нормально. Одоевская и должна ее испытывать. Когда вышла Литерная с коллективным письмом, а я ничем не могла противостоять, я не связалась с ней. Духу не хватило. Она могла придти к умозаключению, что я ее предала, а я ее не предала.
— Погодите, Таня, — позволяю я себе назвать ее так, как она звучит, — у меня есть для вас новости, и довольно существенные. Всем пока не могу поделиться, но у нас в руках документы, которые на сто процентов подтверждают вашу правоту, а, стало быть, неправоту ваших оппонентов. Наших оппонентов, — поправилась я.
Мне хотелось занимать позицию объективного исследователя, я старалась, но не слишком удачно. Если бы моих стариков сразу не обидели — другой колер. Они оказались гонимы — я не могла встать в позу над схваткой. Однако и в гонители Окоемова я не годилась. Даже получив доказательства его фальсификаций. Я не переставала биться над задачкой, как бы я себя повела, узнав каким-то манером то, что узнала, будь он жив. Наверное, товарищи подписанты правы, вероятнее всего, я бы испугалась пинать живого льва. Но и поверженного я не пинала. Я подозревала, что если б явилась к нему, живому, с письмами Одоевской и Обручева, и он, почти наверняка, спустил бы меня с лестницы, буквально или фигурально, это не затронуло бы меня столь болезненно, как все, что случилось после его смерти. Я отдавала себе отчет в том, что, в силе и славе, он не нуждался в моем сочувствии или презрении. Умерев и сделавшись беспомощным, он переходил из залога действительного в залог страдательный. Вместо куска железа, в какое себя заковал, вместо куска мрамора, какой для себя изготовил, проступали контуры дитя человеческого, каковы мы все, без панциря, в который прячемся, без котурнов, на которые встаем, без глянца, который наводим, как румянец на лицо покойного. Страдающее дитя человеческое — можно ли было вообразить его таковым при жизни, мог ли он при жизни позволить окружающим признать его таковым — да ни за что. Боль сопровождала все мои движения.
Я слушала реакцию Одоевской, Одоевская торжествовала. Я машинально отмечала, что это не было торжество над поверженным противником, а торжество восстановленной правды.
— Вот.
— Что вот?
— Вот, Танечка, разница между вами и ими. Им важно было унизить ваше достоинство, вам — восстановить свое.
Она смягчилась, она развеселилась, теперь это была веселая старая девочка, которую я любила. Мы любим тех, кому приносим благую весть.
Номер Обручева я не успела набрать, он объявился прежде.
— День добрый, Лев Обручев, мне звонила Таня Одоевская, она не ошиблась насчет документов?
— Не ошиблась, Лев Трофимович.
— Но это сногсшибательно.
— Это сногсшибательно.
— Это сногсшибательно еще и потому, что сегодня как нарочно газета Сплошные вести печатает избранные страницы из каких-то автобиографических заметок Окоемова, и там опять про то, что после восьмого класса убежал на войну, воевал и вся эта лабуда. Вы получаете газету Сплошные вести?
Я не получала газету Сплошные вести. После ухода Санька я ее в руки не брала.
— Что вы собираетесь делать?