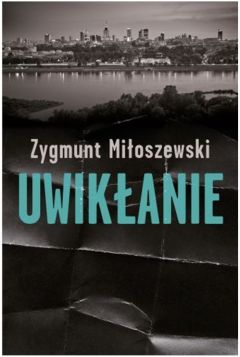Зигмунт Милошевский - Доля правды
— И что я теперь им всем скажу? — прошептала. — Столько о тебе рассказывала. Мне говорили: опомнись, — а я спорила, дурища.
Он шагнул в ее сторону, но она встала, шмыгнула носом, забросила сумку через плечо и направилась к выходу, даже не взглянув на него.
— Ага, вот еще что, — повернулась уже в дверях. — Вчера ты был чарующе настойчив и неотразимо невнимателен. А это, мягко говоря, был очень и очень нехороший день, когда нельзя быть невнимательным.
Грустно улыбнулась и вышла. Выглядела изумительно, и Шацкому вспомнилась сцена из «Кинолюбителя»[74].
2Кафедральный собор Рождества Пресвятой Девы Марии в Сандомеже был полон народу. Если верить отдающимся эхом от каменных стен словам из Деяний святых апостолов, всех верующих оживотворяли один Дух и одно Сердце[75]. Но, как водится, никто этих слов не слышал, каждый забылся в своих мыслях.
Ирена Ройская смотрела на сидящего в кресле епископа Франковского и гадала, кто же теперь у них будет новым ксендзом-епископом, потому как Франковский был временным, а старого перевели в Щецин. Мог быть и Франковский, но это еще на воде вилами. Люди поговаривали, что уж больно он активен на радио «Мария»[76]. Вроде оно и правда, но Ройская помнила, как он в Сталёвой-Воле встал на защиту рабочих, как по тайному туннелю выводил бастующих с завода прямиком в костел, как мучили его коммуняки. И чего же удивляться, что не любит он этих красных, что больно ему видеть, как теперь стали они такими же хорошими поляками, как и те, что по тюрьмам сидели. А где же он об этом должен говорить, как не на радио «Мария»? Ведь не в TVN же.
Януш Ройский оторвал наконец тоскливый взгляд от скамьи, где сидела его супруга. От стояния чудовищно разболелась нога, ныла аж до самого позвоночника, а от почек отдавало в пятку. Но что поделаешь — сегодня в собор заявились все как одна беременные и замшелые старухи из епархии, а жену просить уступить ему место было бы глупо. Он взглянул вверх, на картины, на какого-то бедолагу, пожираемого драконом, и на другого, насаженного на кол настолько основательно, что конец кола выходил из-под лопатки. Раз уж эти терпели за веру, то и я часок могу постоять, подумал он. Ему было скучно, уже не терпелось пойти на воскресный кофе в кофейню, сесть там в уютном тепле и поговорить. Он начал согревать дыханием руки. Опять зверский холод, эта весна, поди, не придет никогда.
Мария Мищик в Бога не верила, а если б и верила, то ее приход находился в двадцати километрах отсюда. Сегодня утром что-то ее кольнуло: надо подъехать. Дело Будника не давало покоя. Одну руку она все время держала на мобильнике с выключенным звуком, чтобы не проворонить вибрацию, когда будут звонить, докладывая, мол, поймали, — ну и конец этому кошмару. А Будник жил поодаль от собора, здесь был его приход, здесь висела эта несчастная картина, из-за которой ее любимый город время от времени становился антисемитской столицей Польши. Прокурор Мищик стояла среди людей в левом нефе и чувствовала на себе взгляд Иоанна Павла II — его портрет украшал драпировку, скрывающую холст. А чувствует ли он на себе взгляды евреев, которые выпускают кровь из христианских детей и запихивают младенцев в набитые гвоздями бочки? — размышляла она. И что бы он сказал на эту тему.
Никто не знал, что неверующая прокурор Мищик некогда была очень верующей, настолько верующей, что, прежде чем сдать на юрфак, училась в Люблинском католическом университете, где рассчитывала приобрести глубокие знания о своем Боге и своей религии. И чем глубже становились эти знания, тем меньше оставалось в ней веры. Теперь вместе со всеми слушала она псалом сто семнадцатый, слушала, дабы возблагодарить Господа, ибо Он добр, а милость Его простирается на веки вечные. Она помнила, что обожала этот псалом, пока не узнала, что в католической литургии от него осталось всего лишь несколько строк. А в полном виде это рассказ о Божьей помощи в борьбе и мести, об истреблении других народов во имя Божье. «Десница Господня высока, десница Господня творит силу!»[77] Она грустно улыбнулась. Прямо-таки удивительно, как католики с жаром прославляют своего Бога словами псалма, который, по сути, является благодарением за победу Израиля над его соседями. Да, знание было самым жестоким убийцей веры, и она иногда жалела, что его приобрела. Под конец она вместе со всеми запела: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его»[78].
Подавленная своими теологическими размышлениями, воспоминаниями о потерянной вере и обо всем том, что в далеком прошлом существовало в ее жизни, но оставило после себя лишь холодную пустоту, Мария Мищик одной из первых вышла из костела, села в машину и тут же укатила. Именно поэтому прокурор Теодор Шацкий появился на месте преступления раньше ее.
3Видно, Янушу Ройскому надо было наверстать потерянный в молчании час литургии (не считая восхвалений Богу, которые он пел вместе со всеми), поэтому, еще не выйдя из костела, он открыл рот да так и не закрывал его ни на минуту.
Ройская решила, что в кофейне сунет ему в руки газету, даст Бог, угомонится.
— Думаешь, он действительно у него ковырялся?
— Ты о чем? Кто? У кого?
— Фома Неверующий. У Иисуса. Ты проповедь-то слушала?
— Господи, Янек, откуда я могу знать. Так написано в Евангелии, похоже, так оно и есть.
— А я вот думаю, что это как-то некрасиво. Я еще понимаю — поковыряться пальцем в руке, но чтоб всей пятерней залезать в живот?! Думаешь, там было пусто или он что-то нащупал? Печенку там или селезенку? А после воскрешения печенка наличествует?
— Если помираешь, когда тебе тридцать три, тогда — нет, только после пятидесяти узнаешь, что у тебя кой-какие органы. Как твоя нога?
— Лучше, — соврал он.
— Прости, что не уступила, я видела, что тебе больно, но сердце у меня страшно колотится…
В ответ Ройский привлек к себе жену и поцеловал ее в шерстяной берет.
— Уж и не знаю, что делать, решиться, что ли, на эту операцию?
— Что за охота ложиться под нож без надобности? Доктор Фибих как сказал: это нестрашно, только неприятно. А даже если тебя разрежут, неизвестно, излечишься или нет, может, всё на нервной почве.
— Сама не знаю, да ладно, давай-ка переменим тему. Помнишь, как мы в свое время смеялись над стариками, мол, они только о болезнях да недомоганиях. А теперь и мы такие же, меня порой от самой себя тошнит.
— А меня нет, меня вроде бы нет.
Ройская искоса взглянула на мужа, шутит, что ли, да нет, просто вырвалось у старика в приливе душевного откровения. Чтоб его не расстраивать, она смолчала. И взяла его под руку, ей было холодно, то ли это старость, то ли весна такая никудышная, конец апреля, а яблоньки в саду при соборе стоят серенькие, ни одного цветочка, если так дальше пойдет, то и ее сирень зацветет разве что в июле. Они стояли между собором и замком, возле памятника жертвам Второй мировой войны — ни дать ни взять реклама игры в домино. Утром еще подумывали, а не отправиться ли им после богослужения на прогулку вдоль набережной, но теперь, не сговариваясь, свернули в сторону города и стали подниматься по Замковой к Рыночной площади. Им не надо было решать, куда пойдут, они всю жизнь ходили в «Малютку». Там, похоже, чуточку подороже, но не так, как везде, — лучше. Да и кофейную пенку посыпали сахарной пудрой. Ройская однажды действительно долго размышляла, не следует ли ей исповедаться, ведь она все богослужение только и думала о том, когда же наконец закончатся мучения и она сможет насладиться своей сладкой пенкой.
— А мы что, и вправду все время толкуем о болезнях? — включился Ройский. — Да нет, просто Фома меня настроил, так и стоит перед глазами, как он в животе у Иисуса копается, а может, это из-за картин, сам не знаю, не люблю я стоять под апрелем, там, поди, самые страшные муки мученические, тот, к примеру, на колу, у меня к нему глаза сами собой тянутся, да еще жижа какая-то стекает с кола…
— Янек! — Ирена Ройская даже остановилась. — Успокойся со своими ужасами.
И как бы в подтверждение жениного возмущения совсем рядышком с ее головой на каменную стену, окружающую заброшенный, полуразрушенный особнячок, уселся иссиня-черный ворон — птица внушительных размеров — и, глядя на стариков, склонил головку набок. Оба взглянули на него в испуге, был он близко, рукой подать. Ворон, кажется, понял свою оплошность, а потому быстренько соскочил вниз, по другую сторону стены. Ройская перекрестилась, на что муж ее многозначительно постучал себя по лбу. Они молча продолжили шествие в гору, и тогда ворон появился снова. На сей раз спрыгнул на их сторону, прошелся прямо перед их ногами и исчез в воротах покинутого особнячка. Можно подумать, что это собака, которая хочет что-то показать своему хозяину.