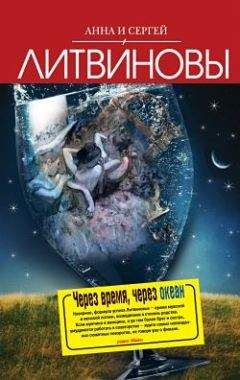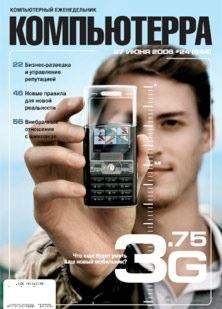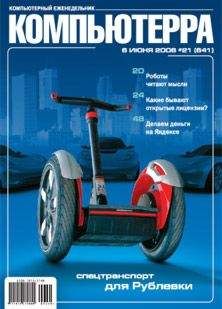Анна и Сергей Литвиновы - Боулинг-79
– Ну, приятное я сновидение? – промурлыкала девушка.
– О да! – прохрипел Валерка. – Иди ко мне скорей.
Все уже было забыто: и Дрезден, и ее измена – ему хотелось лишь одного: обладать ею.
– О-о, заветные сны так скоро не сбываются, – прошелестела она. – Для начала смотрящему сон надо немного помучиться.
Тут он, наконец, не выдержал, вскочил с койки и с хриплым, нечленораздельным ревом бросился на нее. Но Лиля встретила его отнюдь не шутейным ударом острого кулачка под дых.
– Лежать, я сказала! – взвизгнула она.
Валерку от ее удара пронзила столь острая боль, что он на несколько секунд даже забыл о своем желании.
Девушка опять побеждала в любовном поединке. Юноша растерянно присел на кровать.
– О, да ты не раздет! – игриво промурлыкала партнерша по сладкой игре. – Ты в трусах? Фи! Кто же смотрит эротическое сновидение одетым? Ты перепачкаешь все трусики. Ну-ка, живо снимай!
Валерка быстро и охотно сдернул с себя трусы. Плоть его дыбилась так, что казалось, одно прикосновение, и…
– Ложись, я тебе сказала. Ложись в кроватку, непослушный мальчик. Иначе твой сон убежит, и ты не получишь ничего.
Лиля тоже тяжело дышала – то ли от игры, то ли от возбуждения, то ли от сознания собственной власти над молодым мужчиной. И он опять лег навзничь, не сводя с нее глаз, с дичайшим трудом преодолевая желание броситься на нее и для верности заложив руки за затылок.
И тогда она, наконец, подошла к нему, и опустилась перед кроватью на колени, и взяла его плоть – подрагивающую от вожделения, словно туго натянутая стрела лука – своими прохладными пальчиками. Он застонал. А она наклонилась и мягчайшими губами коснулась инструмента сладкой пытки и величайшего наслаждения. Он почти закричал. А Лиля, крепко держа набухшую до крайней степени плоть у основания, несколько раз наклонилась над ней, вбирая ее в себя и лаская языком. И тут Валерка не выдержал. Вместе с криком, извергшимся из его легких, извергся и он сам. Сладчайшая агония продолжалась пару секунд – а, может, вечность. В голове будто вспыхивали огни фейерверка, разрывались сладкие бомбы. А потом все вдруг – в один момент, как всегда бывало – кончилось, и пришла неслыханная трезвость, и он увидел перед собой на полу на коленях Лилю, и она крепко держала пальчиками его выстрелившее орудие, и его ноги, и ее щеки, и простыня были мокрыми.
– Тебе повезло, мой мальчик, – ласково прошептала девушка. – Ты досмотрел свой сон до конца. А теперь ночная фея уходит.
– Нет! – вскрикнул он, вскочил с кровати (опять раздался перепев пружин), схватил Лилю за плечи, стал гладить по волосам и целовать губы, ставшие необыкновенно мягкими. – Нет! Ты не уйдешь! Ты останешься со мной! На всю ночь! Навсегда!
Под своими руками он чувствовал, как разгорелось ее лицо, она чуть прерывисто дышала и по-джокондовски улыбалась.
– А ты заслужил целую ночь? – с сексуальным придыханием пропела она.
– Да! Да!
И он уложил ее на себя, и почувствовал, как его коснулась прохлада ее больших грудей, и под руками чувствовал изгиб ее бедер, и она поцеловала его в губы, и он понял, что снова готов на подвиги. В страстном желании отплатить ей за свое неслыханное наслаждение он стал покрывать поцелуями ее грудь, живот, опускаясь все ниже.
– Ох, – прошептала она.
Все было прощено: измены, Дрезден, Володька… Почему-то именно такое ее явление – без объяснений, договоренностей, неожиданное, как пожар, опять примирило его с ней… Она снова вернулась к нему, и он опять горел и изнемогал от любви в ее объятиях.
…А на исходе этой шалой ночи, когда оба провалились в глубокий, словно пещера, сон, а потом одновременно от него очнулись, Валерка, держа ее в объятиях и глядя ей прямо в глаза, спросил:
– А, может, ты ошиблась? Ты приходила – к нему? К моему соседу?
Но она, не отводя глаз, очень серьезно ответила:
– Нет. Я пришла только к тебе.
Пару лет назад
Лилька позвонила ему, когда он отсыпался после суток на стоянке.
– У меня мало времени, слушай внимательно, – с места в карьер начала она.
Валерка спросонья не узнал ее.
– Кто это?
– Ой, да ты что, спишь там? – расхохоталась она. – Или выпимши?
– Выпимши, выпимши, – пробурчал Валера. – Я ж тебе говорил: я завязал двенадцать лет назад. Или не говорил?
– Молоток, – бросила она, совсем в духе их студенческой юности. – А теперь слушай. Завтра у тебя запись в восемь ноль-ноль. Утра. Значит, в Останкине нужно-быть в семь. Инструктаж, грим, репетиция… Ну, ты же старый артист (в смысле опыта, конечно), ты меня понял…
Валерка проворчал:
– А раньше не могли съемку назначить?
– Не бурчи, звезда!.. Мы по шесть программ в день пишем. Люди с шести утра до трех ночи на ногах. Теперь, что ты наденешь?
– Ну, не знаю… Костюм, наверное…
– Ни в коем случае, – отрезала она. – Костюм совершенно не в твоем стиле.
– Ну, тогда джинсы…
– Тоже – нет. Джинсы на экране плохо смотрятся. Надевай простые брюки. И рубашку с распахнутым воротом и без всяких галстуков. И с длинным рукавом.
– Как с длинным? Ведь тридцать градусов жары!
– Ну и что? В эфир программа может осенью пойти. Будешь выглядеть, как дурак, в летней маечке.
– Хорошо, – пробурчал он.
Валерка уже жалел, что связался с телевидением. Но не хотелось делать обратный ход. К тому же его участие в программе давало ему шанс еще раз увидеться с Лилей. Хотя он понимал: они, конечно, теперь не пара. Совсем не пара. И шансов на то, чтобы между ними что-то повторилось – ноль целых ноль десятых. Но все равно – а вдруг?.. Лиля продолжала наставлять его:
– Рубашку надевай ни в коем случае не белую…
– Почему?
– Будет бликовать в камеру… Синюю тоже не надо… А то сольешься с фоном… И красную не надевай. Этот цвет убивает лицо, особенно возрастное.
– Что ж тогда?
– На радугу на досуге посмотри. Там еще большой выбор остался… И возьми с собой – обязательно! – запасную одежду. Вдруг придется играть две передачи. Надо будет переодеться. Чтобы зрители думали, что между двумя записями действительно неделя прошла…
– Зачем такие заморочки?! Я не уверен, что вообще играть буду!
– А ты верь. Верь в себя – и все получится.
– Да уж.
– Ладно, у меня еще полно дел.
– Постой!
– Что?
– Слушай, Лилька, а давай вместе сходим куда-нибудь. Вдвоем.
Она кокетливо пропела:
– Куда, например?
– Ну, не знаю…
Валерка смешался. С того момента, как он последний раз ходил в ресторан, прошла целая вечность – лет десять.
– Может, в «Ёлки-палки»?.. – неуверенно предложил он.
Она расхохоталась.
– Подумать только, «Ёлки-палки»!
– А что я не так сказал? – ощетинился Валерка.
– Ладно, не обижайся. У меня другая идея. Если ты вдруг выиграешь (а ты можешь выиграть), поведешь меня в ресторан – но по моему выбору. Идет?
– Запросто. Тем более что вряд ли я выиграю.
– Ну, а не выиграешь, я приглашу тебя в кафе. Чтобы компенсировать твои моральные и материальные издержки. Только не завтра, а дней через пять, когда весь этот дурдом с записью программ закончится. Договорились?
– Идет.
– Все, привет семье.
Лиля положила трубку.
В ее кабинете уже давно, почти с самого начала разговора, торчала редакторша по игрокам, глупышка Настена. Лиля вела разговор, не стесняясь ее присутствия. Володя научил ее не чураться своих рабов. И уж тем более рабынь.
Но идиотка Настена сама могла – услышав, что разговор начальницы носит личный характер, – взять и выйти. А она, наоборот, торчала, раззявив рот. Да и по окончании разговора продемонстрировала свою глупость (или, может, напротив, утонченную хитрость?):
– Ой, Лилечка Станиславовна, а зачем вы сами игрока инструктировали? Это ж моя работа.
Лиля сделала вид, что не заметила реплики. Нахмурилась.
– Где, Настена, списки завтрашних игроков?..
…А Валерка, нажав на «отбой», обнаружил себя стоящим в одних трусах босиком на голом линолеуме в кухне – настолько он был увлечен разговором с Лилей.
Окна Валеркиной съемной квартиры выходили на север, и солнце в них никогда не попадало. Летом это было благом.
Он стоял и смотрел, как во дворе в мусоровоз грузят контейнеры.
И как ребятишки гоняют мяч внутри хоккейной коробки. Пыль стояла столбом, однако многие парни все равно были в футболках с надписями Рональде, Креспо, Жо.
Жизнь промчалась в одну секунду, подумал Валера. Как и не было ее. Пролетела со скоростью курьерского поезда. Сверхзвукового самолета.
И оказалось, что за двадцать пять последних лет ему особенно и вспомнить-то нечего. Все эти годы жизнь его била и плющила, испытывала на излом. А он сражался с ней. Изворачивался и сопротивлялся. Дрался за нее. Сначала ради семьи. Потом, когда семьи не стало – ради дочки. И в меньшей степени, для себя. И не потому, что очень уж самого себя любил, а из элементарного инстинкта самосохранения.