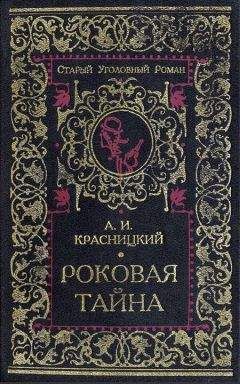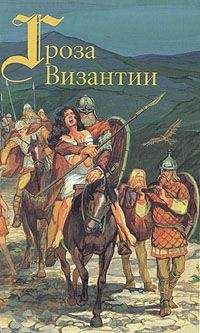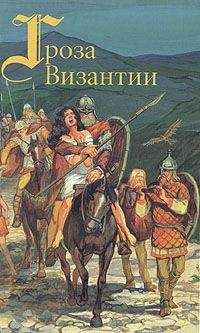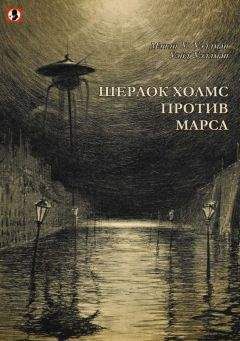Александр Красницкий - Воскресшая душа
– Графиня-с осталась, – погладил Коноплянкин бороду.
– Как! Так что же, черт возьми, вы ее, что ли, осмелитесь обвинять в преступлении? – и Куделинский нервно рассмеялся.
– Смеяться изволите? – проговорил Коноплянкин. – Оно действительно смешно; я бы вот и сам со смехом к вам подстал, да не могу-с… Какой тут смех, когда плакать хочется? Ведь с убиенным Евгением Николаевичем мы друзья были. Он мне и посейчас состоит должным за одежонку, которую я этому самому Миньке Гусару, когда он его увез, предоставил. Человек-то был Евгений Николаевич верный, так разве мог я ему не поверить? Как безвременно от рук злодеев смертный час принял, так мне и не заплатил ни гроша. А я – человек бедный; разве могу я убыточиться?… Тут злодеи добрых людей укокошивают, а я убытки из-за этого терплю. Никак не могу-с…
– Так что же, по-вашему, уж не графиня ли убила своего приемного отца?
– Не знаю-с. Может быть, и она, а может быть, – Коноплянкин, лукаво посмотрев на Куделинского, бросил ему прямо в лицо: – А может быть, и вы.
– Да вы с ума сошли! – вскрикнул Станислав. – После этого и говорить не стоит!
– А сделайте одолжение, не говорите! Тоже! – перешел Коноплянкин на дерзкий тон. – Сам ко мне пришел да еще дерзит… Ишь ты! Будто я не понимаю, как вы меня обойти хотите? Все понимаю, не махонький. Почем я знаю, может, ты и есть убивец! Да ты, и никто иной: сам проговорился, вот на тебя и донесу…
– Что проговорился? – спросил Станислав, сбитый с толку переменой в обращении Коноплянкина.
– А ты, – уже совсем перестал стесняться последний, – ты сам сказал мне, что знаешь, кто убил Козодоева.
– Ничего я не говорил!
– Врешь! Попался, так вертеться нечего. Сам же ты сказал, что твердо уверен в том, что Евгения не Минька ухлопал. Ежели ты твердо уверен, так знаешь, кто тут поработал, а ежели знаешь да молчишь столько времени, так, значит, ты самый убивец и есть.
Куделинский сидел бледный. Он был так поражен, что даже не видел, что дверь в комнату приоткрылась, как будто кто-то стоял за нею и хотел, но не решался войти.
– Лучше смирись, – продолжал Коноплянкин. – Кто ты такой, я не знаю, но это узнать не хитро. Как там о тебе и о графине твоей рассудят – другое дело; может быть, вас и не обвиноватят, но все же, пока суд да дело, посидеть придется… Ой, говорю, покорись! Не поскупитесь – сладимся. Сторговаться с хорошим человеком всегда можно. А тебя, убивца, даром покрывать не буду…
– А вы, любезнейший, так сказать… хе-хе-хе… жестоко ошибаетесь, – совершенно неожиданно раздался позади них голос. Коноплянкин и Куделинский вскочили со своих мест. Дверь в комнатку распахнулась, и на пороге появился Кобылкин.
XXXIII
Мефодий Кириллович стоял со своей обычной – не то веселой, не то лукавой – улыбкой. Он похудел, побледнел, нос заострился, глаза провалились, но все-таки это был не призрак, а живой человек.
– Узнаете, наипочтеннейшие? – потирая руки, спросил он. – С одним-то, – он кивнул на Коноплянкина, – я давно знаком, да и с вами, молодой друг, – обратился он к Куделинскому, – тоже имел случай познакомиться, и даже очень близко.
Мефодий Кириллович закрыл дверь и подошел к собеседникам.
– Чего, борода, дрожишь? – спросил он Коноплянкина, а затем перевел взгляд на Станислава. – И с вами что-то такое, мой молодой друг?
На Куделинского было страшно смотреть. Его красивое лицо было мертвенно-бледно, глаза расширены, и губы дрожали, и сам он трясся, точно в лихорадке.
Когда Кобылкин подходил, он отступал от него все дальше, вытянув вперед обе руки, как для защиты.
– Вы, – проговорил он сдавленным голосом, – вы… Откуда вы? Ведь вы умерли?… Вы мертвы…
– Жив, благодаря вам, жив! – засмеялся Мефодий Кириллович. – Не дрожите так, молодой человек!… Ай- ай, какая слабая современная молодежь! Разве можно быть таким нервным? Да полноте, перестаньте, успокойтесь, ведь я же, так сказать, совершенно реален.
Станислав достиг уже угла комнаты и забился в него. Он ничего не говорил, только слышно было его тяжелое, прерывистое дыхание.
– Батюшка, Мефодий Кириллович, – кинулся к Кобылкину Сергей Федорович, – не погубите!…
– Ага, борода, – усмехнулся тот, – пришел во все свои чувства? Узнал старого знакомого?
– Узнал, батюшка! Как не узнать вас, благодетеля нашего? Не погубите! – и Коноплянкин плюхнулся на колени перед Мефодием Кирилловичем. – Простите! Навеки закаюсь!
– В чем? – спросил Кобылкин.
– В этом самом… Никогда не буду…
– Да чего? – добродушно спросил Мефодий Кириллович.
– Насчет графини… Не нужно мне ни ресторации на Обводном, ни новой крыши… Не погубите только меня, горемычного! – И Коноплянкин вдруг припал к ногам Мефодия Кирилловича, обнял их и, причитая, заговорил: – Это они все, убивцы окаянные, они меня в грех ввели… Ох, соблазн, ох, искушение!… Стой! – вдруг крикнул он и вскочил на ноги. – Нет, брат, не уйдешь!…
Куделинский, заметив, что Мефодий Кириллович отвлекся от него, подкрался к двери. Однако, когда он уже приотворил ее, Коноплянкин настиг его и схватил за шиворот.
– Прочь! – захрипел Станислав, пытаясь оттолкнуть буфетчика.
– Врешь! Не пущу! – задыхался тот, охватывая его геркулесовыми объятьями. – Попался, так и сиди!
Между ними завязалась борьба.
– Убью, ежели их высокородие прикажут, – сопел Коноплянкин. – Я тебя, разбойника, живьем представлю.
– Погоди! – дав им побарахтаться, дернул за плечо Коноплянкина Мефодий Кириллович. – Потише ты! Господин Куделинский, ну к чему вы все это? Неужели же нельзя обойтись без унижения?
Он помог Куделинскому подняться с пола, куда его словно мешок бросил Коноплянкин.
– Воды! – прохрипел тот.
– Принеси! – крикнул буфетчику Кобылкин и подвел Станислава к стулу. – Садитесь же!…
Теперь тон Мефодия Кирилловича был совсем другой. Он не просил, а приказывал, и его приказания производили впечатление.
– Вот так-то лучше, – проговорил он, усадив начинавшего успокаиваться Куделинского.
– Батюшка, Мефодий Кириллович, – вмешался Коноплянкин, принесший воду, – не оставайтесь вы с ним… Как бы чего худого не вышло… Уж осмелюсь доложить, такой это человек!
– Пустое мелешь! – отрезал Кобылкин. – Суешься, куда тебя не спрашивают. Выйди вон и никого не пускай сюда, пока я буду разговаривать с господином… Понял?
– Слушаю-с, батюшка, – закланялся Коноплянкин, – умру на месте, а никого не допущу.
– Теперь мы поговорим, любезнейший, – промолвил Мефодий Кириллович, усаживаясь против Куделинского. – Вы, конечно, узнали меня?
– Да, – ответил тот.
– Вот это хорошо! – воскликнул Мефодий Кириллович. – Это значительно облегчает мне разговор.
– Послушайте, скажите, что вам от меня нужно?
Куделинский осмелел и решил идти напролом, надеясь исправить свою невольную оплошность.
– То есть как это что? – удивился Кобылкин.
– Так. Я попал в какой-то заколдованный круг…
– Поистине в заколдованный! Редко кто из современных преступников может похвастаться приключениями подобно вашим.
– Я не знаю, о чем вы говорите…
– Будто уж? – лукаво прищурился Кобылкин. – А зачем же вы сюда изволили пожаловать?
– Зачем? Очень просто. Я могу вам объяснить. Этот негодяй Коноплянкин пытался шантажировать графа и графиню Нейгоф… Вы, конечно, знаете о них?
– Как не знать! – воскликнул Мефодий Кириллович.
– Граф скоропостижно умер под впечатлением угроз этого человека, графиня же послала меня узнать, в чем дело. Это так естественно… Ведь надо же обороняться от подобных подлецов. Я дал ему волю говорить все, что он хочет, желая узнать, какие у него основания для шантажа. Это животное взяло непозволительно грубый тон…
– Силу, значит, почувствовал Федорыч, – спокойно заметил Кобылкин, – он мужик тонкий, свою линию ведет аккуратно, но грубости у него действительно хоть отбавляй.
– Вы знаете, что он избрал почвой для шантажа?
– Кажется, убийство Козодоева?
– Да. Он осмелился в нем обвинять покойного графа Нейгофа…
– А потом и графиню Нейгоф, а потом и вас?
– Да, вы правы.
– Ну, еще бы мне не быть правым! Слушайте, господин Куделинский, вы помните нашу встречу в Любани?
– Помню.
– Прекрасно. Знаете, какое я имел приключение на обратном пути в Петербург? Ведь меня сбросили с поезда.
– Очень жаль.
– Однако вы сострадательны… Но я позволю себе рассказать некоторые подробности; они очень интересны. Меня, собственно говоря, не сбросили с поезда, а выронили из рук в тот самый момент, когда я должен был очутиться под колесами. Человек, которому нужна была моя жизнь, приподнял меня – я был под наркозом – и направил мое падение так, чтобы меня разрезало колесами; но в это время толчок, полученный этим человеком, заставил его выпустить меня из рук. Я упал не под колеса, а сбоку, и по инерции меня откинуло дальше. Я упал в снег; это ослабило удар. Мало того, упав, я покатился под откос; это окончательно спасло меня. Падение и холод привели меня в чувство. Около меня хлопотал дорожный сторож. Что вы скажете? Не спасен ли я был тем благодетельным толчком, который получил несчастный, намеревавшийся убить меня? Моя гибель была близка… И вдруг…