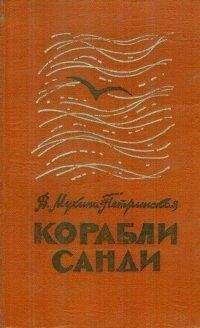Галина Романова - Большие проблемы маленькой блондинки
— Не дрейфь, ты смотреть не станешь, — догадался Щукин, он ведь тоже мог быть догадливым и проницательным. — Просто города я не знаю. Куда ломиться, тоже. К ментам подашься, вопросы начнутся, а у меня… Короче, прописан я был одно время не там, где приличным людям надлежит прописываться, понял?
— Да понял. — Парень вздохнул, поелозил рваным кедом по асфальту, почесался тощей спиной, обтянутой клетчатой рубашкой без рукавов, о стену и проговорил нехотя: — Ну, поехали тогда, что ли. Есть у меня знакомый один. Он к ментам вроде вхож. Поговорим, может, поможет.
Знакомый оказался самым подлым, самым опустившимся бомжом, не желающим делать ни шагу за спасибо. За звонок «другу», так он именовал следователя, которому благополучно стучал последние пару лет, Никитыч затребовал сотню. За то, чтобы по его распоряжению сопроводить Щукина до отделения милиции, а потом до морга, еще две. При этом он плотоядно облизывал толстые губы, покрытые трещинами с въевшейся в них намертво пылью, и многозначительно потрясал в воздухе кривым пальцем, что могло означать только одно: он им еще пригодится и, уж конечно, ничего делать за бесплатно не станет.
Щукин безропотно отстегивал сотни, хотя сопровождающий и толкал его сердито в бок крепким кулаком.
А ему вот плевать на деньги, хотя особо-то их и не водилось. Плевать и все! Ему вдруг страстно захотелось докопаться до правды, которую он поначалу отметал от себя, а теперь вот решил, что все, хватит, не отмахнуться. Потому и совал в заскорузлые ладони сотню за сотней, даже сверх того, что было оговорено поначалу.
— Ну, иди, что ли, парень, — приказал Никитыч, стоя у металлических дверей морга, сам идти туда он наотрез отказался, суеверно перекрестился и пробормотал: — Успею еще…
Ишь ты, — подумал с раздражением Щукин, вручая сумку со своими рубашками новому знакомому, назвавшемуся Вадимом. Жить ведь не живет, прозябает в грязи и навозе, в холоде, голоде, пьяном угаре и тоске, а ТУДА все равно не хочет. Даже такая вот ухандоканная изнанка, а все равно жизнью считается и стережется.
А может, в том вся и правда? Может, потому и дорожит своей никчемной, продубленной жизнью Никитыч, что знает: до того, чтобы ТАМ очутиться, у него ровно полшага. Наверх нельзя, да и не получится, а вниз — всего лишь полшага. Потому и не торопится его сделать, оттягивает. Знает, как страшно ТАМ, знает. Ему ведь она — тварь заплесневелая — каждую ночь в лицо дышит.
Может, все и так…
— А с чего вдруг такой интерес к трупу? — толстенкий, маленький, в очочках патологоанатом оглядывал Щукина с профессиональным интересом, ощупывал почти, будто нацеливался, куда поскорее вонзить свой скальпель. — Вроде бы все давно решено с ней. Что еще за вопросы?
— Вопрос один.
Щукин вздохнул, выдохнул, пытаясь осознать, жив ли он еще до сих пор или наполовину умер. Пощурился на отвратительный свет люминесцентных ламп, нестройной дорожкой выложивших коридорный потолок. Хотел было облокотиться о стену, но потом передумал. Значит, жив все же, если отвращение способен испытывать.
— Вопрос один… — снова проговорил он после паузы и снова помолчал, прежде чем выговорить. — У вашей погибшей пальцы на левой руке все целы?
— То есть? — Круглые, будто у филина, глазки за стеклами очочков настороженно блеснули. — Что вы хотите этим сказать? Если имеется в виду, присутствовали ли на руке все пять пальцев, то твердо смогу заявить. Да, все пять пальцев на левой руке погибшей присутствуют.
— На безымянном должно не хватать одной фаланги, — промямлил Стас Щукин и еле сдержался, чтобы не расплакаться.
Вдруг как стиснуло все в груди. Как накатило. Как подступило к глазам и горлу, стоило вспомнить про этот ее палец, которого Томка вечно стеснялась. Даже кольца отказывалась носить на левой руке и перстни, из-за этого дефекта, заработанного в шальном подростковом возрасте. Он еще, идиот, смеялся всегда, что вот по этому пальчику ее и станет искать. Накаркал, получается, провидец хренов.
— На безымянном? Фаланги? — патологоанатом задумчиво скрестил толстые ручки на округлом животе. — Кажется… Кажется, отсутствует. А что такое?
— Взглянуть можно?
Вот зачем ему было глядеть на нее на обгоревшую?! Зачем? Зачем, если и так все понятно: в этом самом морге, в одном из склепов холодильников покоится его Тамарка, которую… Которую сожгли, может быть, заживо и которую он теперь никогда, ну просто никогда не увидит живой. Не погладит, не обнимет, не будет любить на старой скрипучей койке, которую выбросить недосуг. И поворчать на нее не сможет, когда она, проспав, не изжарит ему омлета перед сменой. И лететь почти бегом с работы теперь не к кому, некому потому что ждать его на старых ступеньках дряхлого дома, который он так любил и который Тамарка пыталась любить вместе с ним.
Она же пыталась, она старалась, он видел и ценил это. А теперь…
— Идемте, — промямлил последний доктор человечества, ну, может, не последний, а крайний, правильнее. — Идите за мной… Взгляните, если что-то сможете понять или узнать.
Конечно, он узнал ее. Хотя узнать было почти невозможно в обгоревшем трупе его красавицу Тамару. Щукин все равно узнал. По отсутствующей фаланге на безымянном пальце левой руки. По уцелевшей прядке волос на затылке. По форме стоп, почти голыми костями торчащих из пластикового мешка.
— Она месяц назад ставила пломбу вот сюда. — Он поднял одеревеневшую руку и постучал себя пальцем по двум передним резцам сверху. — Пломбу поставили по-дурацки, расколупав почти оба зуба наполовину. Не заметить нельзя… А полгода назад коронку на коренной, тот, что перед зубом мудрости.
— Слева или справа? — все еще недоверчиво, но уже с заметным сочувствием, уточнил врач.
— Слева, сверху… — Щукин отвернулся и пробубнил глухо: — Золотая коронка должна быть. Кольцо от матери моей осталось…
Он слышал, как за спиной взвизгнула застегиваемая молния на пластиковом пакете, потом щелкнул замок, лязгнула тяжелая дверь холодильника, и через минуту хозяин морга шлепнул его по плечу.
— Идемте в мой кабинет, — озабоченно покрутил он головой. — Раз такое дело… Надо ставить в известность местные власти…
Властям, прибывшим через полчаса на место, новость совершенно не понравилась. Было их двое. Оба на предмет жары облачились в безликие кофты с куцыми воротничками и короткими рукавами и тонкие, вроде кальсон, светлые штаны. Как вошли, как узнали, в чем дело, так и вцепились в Щукина.
— Когда именно вы догадались, что это ваша жена погибла в пожаре, а не гражданка Светина?
— Что натолкнуло вас на мысль, что это именно она?
— Что вообще привело вас в этот город?
— Вы были судимы?..
После щукинского ответа на последний вопрос началось такое…
Он уж и не думал, что выйдет на свободу из здания городского морга с чистой совестью и не связанными за спиной руками. Вяло оборонялся, и не оборонялся даже, а по привычке огрызался. Потому что совсем некстати ему было быть обвиненным в гибели своей любимой Тамарки. Некстати хотя бы в память о ней, притом еще когда ее тело совсем рядом, всего-то за парой стен и цинком холодильника.
— А куда же тогда Светина подевалась, а? Кто ответит мне на этот вопрос? — особенно усердствовал тот, что был помоложе.
Второй все больше помалкивал и курил в открытую кабинетную форточку. То ли лень ему было в такую жару разоряться. То ли думу какую думал про Щукина, его погибшую жену и, как оказалось, не погибшую Светлану Светину. Но молчал почти все то время, что козлом скакал по кабинету его молодой коллега.
Потом и тот заметно сник. Вот как только Щукин подробно рассказал обоим, кто поспособствовал его теперешнему пребыванию в их городе, так тот сразу и сник, будто воздушный шарик, который ткнули тонким шипом.
Шипом в данной отвратительной ситуации для них являлся Станислав Щукин. И он, и они оба, и даже маленький толстенький патологоанатом — все это понимали.
Щукин — с его опознанием — перепутал все. Стройную версию, над которой усердно трудился весь отдел. Отчетность, которую уже отправили наверх. Поставил под сомнение виновность подозреваемого, а дело вот-вот должны были передать в суд.
Ведь как все удобно складывалось про этого Удобного! Спутался с молоденькой девчонкой, а у той воздыхатель среди милицейской братии. Не стерпела душа незаслуженно обойденного вниманием, не выдержала. Он и того… убил обидчика, а заодно и изменницу, обставив дело под несчастный случай. И пускай вины своей пока не признал, и отрицает все, и отмалчивается. Положения дел это нисколько не меняет. Имеются компрометирующие фотографии, показания свидетелей, пускай и не очень уверенные, но имеются, и все такое.
И вот тут является какой-то Щукин, был бы человеком, а то бывший уголовник, убийца! Является и сметает своей преступной рукой все стройное и отработанное. Является и превращает все в хаос. И отчетность, и версию, и возможную премию с досрочно подогнанным повышением. Является и узнает в погибшей свою пропавшую и пропащую — чего уж тут лукавить — жену, которая, оказывается, несколько дней назад сбежала из дома с подругой. И кто бы вы думали подруга? Да, да, та самая Света Светина, которая какое-то время считалась погибшей, а теперь и не погибла вроде как, а просто испарилась, растворилась. Или удрала, а? А зачем, спрашивается, ей удирать? А затем, что…