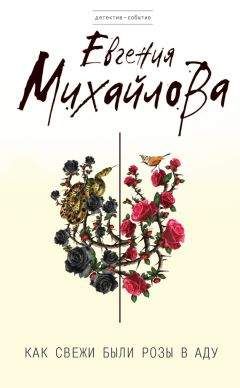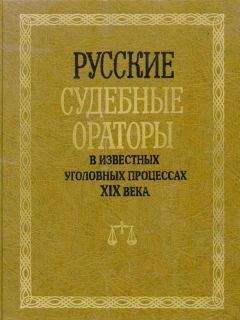Руслан Белов - Руслик и Суслик
Вера согласилась. Предыдущая ее беременность завершилась трагически, и врачи сказали, что детей, судя по всему, она иметь не сможет.
Чернов сделал все, чтобы Полина родилась. Он убедил ее, что с его ребенком ничего плохого не случиться.
Три года, пока Вера была в послеродовом отпуске и искала потом подходящую работу, они жили неплохо.
Потом все изменилось.
Чернов оказался совершенно невыносимым человеком. Он не желал ни под кого подстраиваться, не мог жить беззаботно, не умел просто ходить по гостям, смотреть телевизор и наслаждаться в уютном ресторанчике настоящей итальянской кухней, он вечно что-нибудь придумывал, переделывал, спорил, предлагал, постоянно раздражая всем этим как Веру, так и ближайших ее родственников.
Так долго продолжаться не могло, тем более, что к исходу шестого года брака Вера стала исполнительным директором коммерческой экономической школы для перспективной молодежи...
***
Чернов догадывался, почему у него ничего не получается в жизни. На окраине Душанбе, - в этом городе он вырос, - дома строили из глины. Люди брали под ногами обычную повсеместную глину, мать грязи, месили ногами, укладывали в ящик-форму и тут же вытряхивали поражающий значимостью кирпич. Затем второй, третий, четвертый. И, высушив их палящим солнцем, строили дома. Однажды, - Чернову было четыре с половиной года, - дед увидел его, стоящего с открытым ртом перед штабелем сырых еще основ мироздания, подошел, стал рядом и сказал:
- Да, кирпичи - это нечто. Из них можно построить все. И знаешь, чем они еще знамениты? Тот, кто делает кирпичи, кирпичом стать не может. Иначе говоря, сынок, либо ты корова, либо молоко. Не хочешь в этом убедиться? На, вот, возьми вместо ящика.
И пошарив в карманах, протянул внуку обычный спичечный коробок.
Через два часа Чернов стал творцом.
Он построил свой первый дом.
Маленький, но очень похожий на всамделишный.
Его сломала ставшая не с той ноги бабушка.
Но процесс пошел. Семилетним, переехав к маме, переставшей ездить на полевые работы, он принялся со всей округи стаскивать во двор бесхозные кирпичи и построил грандиозную сводчатую башню. Маленький Чернов сидел в ней, совершенно великолепной, сидел на корточках, с опаской поглядывая на шаткую кровлю, когда пришел рассерженный отчим (мать оторвала его от книг). Вытащив и коротко отругав пасынка, он разрушил его творенье, и ушел дописывать диссертацию.
Чернов не расстроился - башни не стало, но остались кирпичи. И тут же принялся сооружать прочную однокомнатную квартиру с устойчивой крышей. Не успел он и пота отереть с лица, как в ней появилась хозяйка, миловидная соседская девчонка, появилась и споро приготовила вкусный обед из ста граммов ливерной колбасы и свежих душистых цветов белой акации.
Потом были и другие дома. Кирпичные, деревянные и семейные.
Семейные дома Чернов строил из себя и любимой женщины. И все они разрушились, потому что просто жить, просто быть он не мог. Дед был прав: либо ты корова, либо молоко.
Поверхностно знакомый с психоанализом Чернов подозревал, что эта безотчетная, подсознательная страсть к сооружению надежных убежищ (как из кирпичей, так и людей), обязана своим появлением не только детскому впечатлению, но и определенным предродовым страхам.
Отношения с его родным отцом у матери не сложилась, и в течение долгих недель жизнь Чернова висела на волоске.
Ему иногда казалось, что он помнит себя не рожденным.
Помнит, как сжимался в страхе, когда бабушка трясла дочь за плечи, трясла, требуя его выскрести.
Помнит, как их выгнали из дома, помнит, как близкая подружка мамы говорила в уютной коморке под оранжевым абажуром, говорила, что глупо заводить ребенка в семнадцать лет, помнит, как, наконец, решившаяся мать шла, опустив застывшие глаза, шла к повитухе.
Эта призрачная память хранила, видимо, и боязнь света, боязнь очутиться в мирской медицинской ванночке обнаженным окровавленный ошметком, хранила и толкала его строить, строить и перестраивать дома, дома-убежища, дома-матки, в которых может быть так покойно.
...Долгое время после развода у Чернова не было женщины. В столице, принадлежащей богатым мужчинам, старшие научные сотрудники как-то не котировались. К тому же, когда удавалось все же познакомиться с более-менее подходящей женщиной, та просила дать ей почитать книжку (Чернов, поработавший во многих районах СССР и за рубежом, пописывал приключенческие романы), а, прочитав, говорила по телефону: "...нет, мы не подходим друг другу. Ты ищешь в жизни и в женщинах то, чего в них нет и быть не может..."
Но свято место пусто не бывает, и скоро в квартире появилась санитарный врач Лариса. Под сорок, красивая, все на месте... Замужем не была, всю жизнь с родителями. Руслик-Суслик невзлюбил женщину - счел слишком нервной и импульсивной. И не без оснований - вспомнив о нем, она бежала к ангару, хватала и начинала гладить и тормошить.
Глаза ее были настороженными. Она не раскрыла ни одной его книжки лишь однажды (угадав ту самую, в которой был весь Чернов) прикоснулась напрягшимися пальцами как к чему-то неприятному, таящему опасность, прикоснулась, всем своим сжавшимся существом выразив нежелание никого и ничего не впускать в себя - ни самого Чернова, ни его мыслей, ни его прошлого. Не впускать, чтобы он не узнал ее, не увидел, того, что у нее внутри.
Как-то, дожидаясь прихода Ларисы, Чернов стоял у окна с Русликом-Сусликом на руках.
- Ты зря ее недолюбливаешь, - говорил он, вглядываясь в подходящих к дому женщин, - Понимаешь, она несчастна... Ее никогда никто не любил, ее всегда использовали. И родители тоже...
Он замолчал, вспоминая, что недавно вычитал в книжках о странностях Ларисы... Почему она не любит поцелуев и прикосновений, почему ей нравиться рассматривать и трогать его ноги, почему панически боится забеременеть. И почему вместо него ласкает свинку...
"Что поймет Руслик-Суслик о ноге, как фетише? - усмехнулся он, переведя взгляд на трехпалую заднюю лапку свинки. - И как ему понять, что ее склонности обусловлены подсознательным стремлением изжить отвращение к сексу, отвращение, привитое в детстве родителями?
Лариса в тот вечер не пришла. Расстроенный Чернов сел за компьютер "сублимировать". В постель он лег в третьем часу ночи, но уснуть долго не мог - Руслик-Суслик пищал и буйствовал до утра. Все опрокинул в своем жилище, все сбуровил.
"Мое либидо, видимо, ему передалось, - усмехнулся Чернов, уже проваливаясь в сон. - Но самочку я тебе не куплю, и не надейся. Стадо свиней в своем доме - это не стадо свиней в Лизином..."
3.
Лариса приходила все реже и реже и через некоторое время исчезла вовсе. Несколько месяцев Чернов был один. Пока не появилась сибирячка Ксения...
Да, ее звали Ксенией. Так же, как и первую жену. К тому же, как выяснилось позже, и родились эти две женщины в один и тот же день.
Ксения... Элегантная, стройная, собранная. Двое мальчиков. И дважды вдова. На первом свидании рассказала, что первый муж, Борис, красавец, самбист, после окончания физкультурного факультета Курганского пединститута, работал в милиции и погиб при исполнении служебных обязанностей. И что второго, Глеба, убили при невыясненных обстоятельствах.
Отношения их сложились довольно быстро. Ксения без обиняков дала понять, что брак ее не интересует, так же, как походы в театры и художественные галереи (об ее отношении к отдыху в ресторанах и кафе Чернов по понятным причинам не спрашивал).
Встречались по субботам: Ксения приходила часов в шесть вечера, Чернов кормил ее отбивными, потом они ложились в постель, потом говорили до часу ночи. Засыпали в третьем часу, утомленные любовью и разговорами.
Говорили в основном о жизни Ксении.
Ей было о чем рассказать, хотя бы об однокашнике Солонике. В третью или четвертую встречу разговор зашел о Борисе, и Ксения рассказала, что его мать, узнав об измене мужа, покончила жизнь самоубийством.
- Вот как... - услышав это, протянул Чернов. - Семь против трех, что и сам Борис погиб отнюдь не при исполнении служебных обязанностей...
Ксения, пряча обнаженную грудь, запахнула синий чапан, среднеазиатский сувенир Чернова, - который служил ей пеньюаром.
- Почему ты так думаешь? - глаза ее потемнели.
Чернов был доволен. Помимо ноток растерянности, в голосе женщины прозвучало уважение.
- Склонность к суициду нередко бывает наследственной, - изрек он. Вспомни хотя бы Хемингуэя.
- Ты прав... Я просто не хотела тебя пугать... - сказала виновато. И, унесшись остановившимся взором в прошлое, из него проговорила:
- На запястьях у него были малиновые шрамы. Два на каждом. За несколько месяцев до свадьбы, он подрался с другом, лыжником из сборной, и выбросил его в окно.
- Погиб друг?
- Нет, покалечился. Так, не очень.
- И из-за этого Борис предпринял попытку самоубийства!?
- Да и нет... На него завели дело, разжаловали в младшие лейтенанты. После того, как сослуживец назвал его "микромайором", он пришел домой, залез в ванну, и вскрыл себе вены. Его спасли случайно...