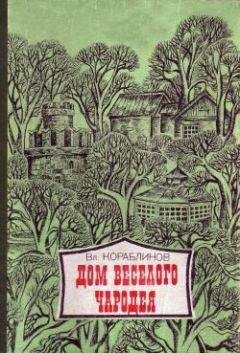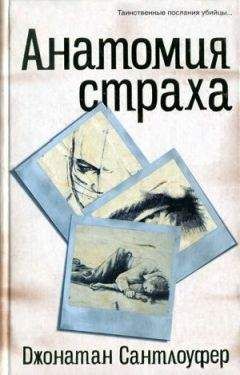Николай Зорин - Окрась все в черный
Я поднялся, подошел к двери, прислушался, но ничего не услышал: музыка заглушала все звуки. Может, мне показалось, что звонят? Наверняка показалось: не должен я был расслышать звонок. Открыл дверь, чтобы удостовериться — и почувствовал одновременно раздражение и облегчение: звонок мне не почудился — на пороге стояла девушка, но, слава богу, не одна из моих знакомых. Впрочем, где-то я ее раньше видел.
— Что вам нужно? — спросил я раздраженно, надеясь, что она обидится, стушуется и уйдет.
— Выключите музыку! — потребовала она и не думая стушевываться.
— С какой это стати? — Я был искренне возмущен ее наглостью. — Разве это кому-нибудь мешает?
— Еще как мешает! Ваша музыка так орет, что не дает уснуть моему ребенку.
Не могла она этого сказать — мне показалось.
— Ребенку? — испуганно переспросил я. — У вас есть ребенок?
— Ну конечно, и он хочет спать, а вы не даете. Разве не слышите, как он плачет?
Бред, бред, бред! Это все от перенапряжения. Воображение сыграло со мной злую шутку. Я внимательно посмотрел на девушку — где я ее мог раньше видеть?
— Кто вы такая?
— Ваша соседка. — Девушка махнула рукой в сторону соседней квартиры.
Врет она все! Нет и не может быть у меня никакой соседки!
Я захлопнул дверь у нее перед носом, бросился в комнату, выключил музыку, пробежал в другую, смежную, совсем крошечную комнатку, даже не комнатку, а выгородку, служившую мне спальней. Правая стена ее была общей с соседской квартирой. Вбежал и остановился. Я уже слышал, все слышал, но не захотел верить. Прижался ухом к стене — да, так и есть: плачет младенец.
Я долго стоял, слушая плач, я так обессилел! Ноги подкашивались, но я стоял, упорно стоял. Соседка (откуда, откуда она могла здесь взяться?!) уговаривала своего малыша перестать, потом запела песенку (не колыбельную, а какую-то странную). Я слышал чуть ли не каждое слово. Отвратительная звукоизоляция! Но ведь не было никакой соседки, когда я сюда вселялся. Не было ее. И вчера еще не было.
Наконец я смог отлепиться от стены. Сел на раскладушку — мне было не то что страшно, но как-то не по себе. А она все пела и пела, ужасно фальшивя. Ребенок как-то вдруг успокоился, замолчал, словно его выключили. Он замолчал, а мать его петь не перестала.
Она еще долго пела, а я сидел на раскладушке и безуспешно пытался вернуть образ подсматривающего. Он так хорошо тогда вошел в то нужное мне состояние, такое верное у него было выражение лица, а теперь все потеряно. Чертов ребенок! Если бы он не помешал, я бы успел сделать хотя бы эскиз. Придется начинать все сначала. И музыку громко включать нельзя. И настроение совершенно испорчено. И… жутко раздражает это пение за стеной.
Понимая, что работа моя сегодня накрылась, я решил прогуляться — нужно было как-то развеяться. Но оказалось, что уже наступила ночь. Тогда я разделся, выключил свет и лег. И как ни странно, уснул быстро.
* * *Разбудил меня плач ребенка. Я зажег лампу (старые жильцы оставили за ненадобностью, а мне она понравилась: потуги на роскошь сороковых — почти раритетная вещь), посмотрел на часы — ровно два. Голова туманилась от внезапного пробуждения, в груди было больно, как при сильнейшей депрессии. Откинулся на подушку, закрыл глаза. Почему он никак не уймется? Чем еще его отвлечь?
Лицо подсматривающего исказилось страданием. И тут я понял, что плач не в голове, а за стеной. Понял и вспомнил: ну да, у меня ведь теперь есть соседка. Мадонна с младенцем. Стерва с отвратительным крикуном. Черт бы ее побрал! Почему она поселилась в «моем» доме? Зачем заняла именно эту квартиру — здесь сколько угодно других свободных: выселенный пятиэтажный дом… И ведь наверняка заняла, а не сняла, как я. Кто она такая? Беженка? Рассорившаяся со своей семьей мать незаконнорожденного? Просто бомжиха? Где-то я ее видел раньше. Где и когда?
Я сбежал — возможно, она тоже сбежала. Я — чтобы написать картину, она — чтобы спокойно вырастить своего ребенка. Оба мы беженцы. В пустом доме ей было одиноко и страшно, вот и притулилась поближе к живому, ко мне.
Для того чтобы изводить меня плачем, для того чтобы помешать. Как и чем теперь отвлечь подсматривающего, если даже музыку нельзя включать громко? Надо ей сказать, чтобы убиралась. Утром и скажу. Вселилась в мой дом без спросу, нахально, а теперь еще отстаивает свои права. Нет у нее никаких прав. Пусть выметается!
Я так раздражился, что о сне не могло быть и речи. Не высплюсь, не смогу завтра работать, еще один день пройдет впустую. Из-за какой-то дуры, которой, видите ли, страшно жить в одиночестве. Вскочил, в ярости стукнул кулаком в стену. Потер ушибленную руку и раздражился еще больше. А ребенок не замолкал.
Нужно было что-то срочно сделать. Мне хотелось распахнуть окно, разбежаться и броситься вниз, закричать, завыть, придушить соседку, растоптать свою непокорную картину. Мужчина в комнате, мужчина за оконным стеклом — тупые уроды — вызывали болезненную ненависть. Скрипя зубами (в самом прямом смысле слова), я ринулся на кухню (подальше от детского крика), постоял, придумывая, чем бы спастись, распахнул холодильник (старый, вся дверца в черных отбитинах, тоже от прежних жильцов), долго растерянно созерцал его нутро. Ничего там спасительного не нашлось: ни бальзама для моих ран, ни яду, ни даже простой валерьянки. Вывернул кран на полную мощь, умылся, когда вода стала совсем ледяной, — но не успокоился, только замерз. Непьющий, некурящий художник, мне совершенно нечем себя реабилитировать. Ни разрядки, ни подпитки, как же я вообще работаю? Раньше мог, раньше мне и нужна была абсолютно трезвая голова, для того чтобы мочь, почти по желанию, войти в транс, и твердая рука, для того чтобы этот транс зафиксировать. А теперь… Тогда я писал простые картины. Моими героями были счастливые люди, не познавшие страха, — блаженные младенцы… Младенцы.
Я опустился на табуретку возле окна — оббитые края ДВП неприятно царапали кожу. Отразился в черном стекле, отвел испуганно глаза, чтобы не встретиться с собой взглядом. В такие моменты, как сейчас, я боюсь и ненавижу свое лицо, а еще больше — свой взгляд: он мне напоминает самый жуткий автопортрет, когда-либо написанный художником, тот самый автопортрет с картины «Шесть мертвецов». Шестым был я, единственный выживший.
Выживший из ума. Выживший из своего такого человеческого, такого почти бытового таланта. Шестым был выживший мертвец. Я бы отдал все на свете, чтобы воскреснуть… вернуться в себя и к себе. Но для этого нужно написать эту картину! Вечер счастливого человека — обычный вечер обычного человека. Если я ее не напишу…
Не напишу — помешает подсматривающий. Почему он не хочет видеть то, что вижу я, почему не может пересилить свою боль — жить дальше? Эгоист и подлец. Нельзя так долго носиться со своим несчастьем, нельзя отравлять жизнь другим. По-моему, он просто упивается своей болью, получает от нее удовольствие. Перестань плакать ребенок, так он повесится.
Нет, я к нему не совсем справедлив — человеку действительно больно. Но как ему помочь? Музыкальная терапия вначале оказала благотворное действие, а потом он отвлекся. Но ведь это же был только первый сеанс. Может, если действовать постепенно, а главное — непрерывно, он в конце концов излечится? Завтра надо снова попробовать. Завтра. А сегодня все же постараться уснуть. Тем более что я вот уже и совсем успокоился.
Это было неправдой, во всяком случае про «совсем». Совсем-то я уж точно не успокоился. А когда подумал о том, чтобы уснуть, раздражение опять подкатило. Я сидел на жесткой, колючей табуретке и не мог заставить себя встать и пойти в спальню, туда, где за стеной плачет ребенок. От нервного напряжения и недосыпа совсем закоченел, спина болела от неудобной позы, и руки, вцепившиеся в подоконник, затекли. Я не смогу завтра работать! Что же мне делать?
Мне все-таки удалось себя пересилить и пойти в спальню. Страхи оказались напрасными — ребенок успокоился, все было тихо. Успокоился и я, выключил свет, лег в постель, завернулся в одеяло и вскоре уснул.
А в восемь часов проснулся от грохота.
* * *Моя жизнь подчинена расписанию стрессов. Каждую ночь ровно в два я просыпаюсь от плача ребенка, с трудом засыпаю, чтобы проснуться в восемь утра от грохота — соседка вывозит из своей квартиры коляску. Ровно в девять она возвращается с прогулки (снова грохот, но я уже не сплю), в двенадцать дня плачет ребенок, в шесть вечера вечерняя прогулка, в восемь он снова плачет. За целую неделю ни разу не было сбоя: ровно в два, ровно в восемь, в девять… Это постоянство сводит меня с ума, эта запланированность просто убивает. Ну хорошо, прогулки, но разве может ребенок плакать по расписанию?
В этих условиях я упорно пытаюсь работать. Ору на подсматривающего, когда ровно в двенадцать он начинает прислушиваться, но сам выискиваю предлог, чтобы посмотреть на часы. Сегодня я разбил часы. Грохнул о стену, но ничего не изменилось — часы во мне, теперь могу определить время без всяких часов до минуты.