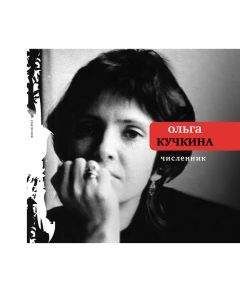Ольга Кучкина - В башне из лобной кости
Я сказала: любезен. По отношению к Окоемову слово неверное. Даже и портреты орденов, советских и русских, чего я не коснулась, написанные им как портреты людей — уникальное художественное открытие мастера, — не предполагали любезности. Пафос — да. Не тот, о каком подростки говорят: пафосное заведение или не пафосное, имея в виду роскошное, для совсем крутых, или попроще, для нас с вами. А органический и органный: не от слова органы с ударением на первом слоге, а от слова орган с ударением на втором, но вместе с тем и органы с ударением на первом, те, что естественны, ибо суть части живой органики, а не противоестественны, что суть спецслужбы, уф. Ах, эти неточности, оговорки и проговорки, выдающие натуру нервную и до сих пор сбивчивую. Следовало бы поуспокоиться и быть поточнее; прыгать, как козе, не по летам, мадам. Зная грех за собой, двадцать раз проверю и перепроверю и не стеснюсь поправиться. Поправить себя — поправить жизнь.
Как ошибку в тетрадке.
Правда, бывает, что поздно.
Вой санитарной машины за окном.
3
Когда только начинала, злил трафаретный вопрос: а вы откуда? Я звонила незнакомому мне писателю Георгию Ондареву, называла себя, просила его к телефону, а незнакомая мне жена Василина спрашивала: вы откуда? Я отвечала: из квартиры. Язык не отвалился бы произнести: из редакции. Стала б я звонить любому Ондареву по своей воле, а не по воле пославших мя, думала моя стеснительность, выраженная в формате высокомерия. С тех пор не любила его. Трудно любить важных. Гораздо труднее — важничающих. Не могла полюбить нагромождений слов, какие понастроил, играя в гениальность, а вылезают бетонные блоки, из которых не возникает дума или возникает уродливый, что уж всуе поминать про сад. Единственно Безмолвие трогало, в красноречивой темно-коричневой кожуре художника Оклочко, 1962 года издания, дальнейшее громыхало безвкусно. Нисколько не рассчитывала на то, что моя фамилия кому-то что-то скажет. Честолюбия ни на грош. Либо так огромно, что из-за размеров невидимо. Зато одолевает желание: забиться в угол или стать невидимкой. Угораздило выбрать профессию, где ни Уэллса, ни угла. Один психбольной, у которого на фоне психической болезни развилось ясновидение, определил меня в ту пору: соревновательна не по силам. Что делать. Слабость или сила не от нас зависят. Природа. Говорят: каждому дается по силам его. Я не принимала того устройства, при коем человек — не сам по себе, а вписанный в клетку организации, ведомства, службы. Претила какая б то ни было принадлежность к группе, партии, учреждению. Я была свободна внутри себя, я хотела быть свободной, как всякий уродившийся на свет, кто сначала плачет и томится, влюблен и любим, предает и сталкивается с предательством, отчего снова томится и плачет, а уж после приписан к учреждению. То есть больше учреждения. А они считали, что учреждение больше. Нам было не сговориться, я была тиха, у меня было свое безмолвие. Врожденная любознательность пробивалась травой сквозь асфальт, выложенный врожденной обособленностью. Красота — поляна. На ней всходил урожай цветов, не мной посеянных, не мной рощенных, но мне явленных. Впечатления описывала, хуже или лучше, не разрешая себе — по слабости ли, по чему иному, — вмешиваться. Свидетель, а не следователь.
Предстояло взойти полтыще лун, чтобы — вопреки или благодаря — заняться, чем занялась: дознаванием, кем в действительности был конкретный человек, а значит, как раз поиском, куда, в какие ячейки занесен, был, состоял, участвовал или не участвовал и не состоял, а следовательно, добычей конкретных телефонов и адресов, а следовательно, расспросами конкретных знающих людей, а следовательно, звонками в конкретные конторы, чтобы полезли на пыльные полки, развязали папки с хрупкими серыми листочками бумаги, на которых стояли выцветшие чернильные печати, заскорузлым либо дряблым пальчиком перетрогали-перещупали порученную ветошь, чтобы в итоге сообщить, что не найдено, или иначе, ответ есть, но он отрицательный, и новыми звонками и письмами, а лучше — просьбами к другим, чтобы другие занимались звонками и письмами, потому что, если честно, я не хотела заниматься тем, чем пришлось, а хотела сложить все в долгий ящик, чтобы отставить и позабыть.
Что мне Гекуба, прошу прощенья.
Отставить и позабыть не получилось — волей обстоятельств, складывающих судьбу. Не исключено и обратное, что судьба подбирает обстоятельства. Возникли двое, он и она, немолодые, хрупкие от прожитых лет и разлетевшихся иллюзий, доверившиеся и доверившие мне — так вышло — не свои секреты, а их размазали, смешали с грязью, унизили. Ну да, заодно со мной. Жалость к ним потащила туда, куда потащила. И делая перед собой вид, что живу иными интересами, взмывая в метафизическое небо, или, напротив, погружаясь в глубь метафизических вод, а об этой — чужой — истории запрещая себе думать и, с глупым постоянством, думая, физически болея сердцем и задыхаясь при одной, ночной или дневной, мысли о ней — чужой! — я, почти втайне от себя — слыхали такое? — с маниакальным упорством продолжала совать свой нос не в свои дела, косящие под свои, потому что знала, что никуда не уйти от полуразрушенных бумаг, где хозяйничают был, состоял, участвовал, либо не был и не состоял. Чтобы что? Заплакать над победой? Или посмеяться над поражением? Что хотела получить от соединения добытого результата с тем, как плакал и томился, любил и был влюблен человек, как предавал и сталкивался с предательством, добивался успеха и терпел поражение, потому что в этом своем возрасте узнала, а точнее, полагала, что узнала, как все связано-перевязано, свито-перевито и перетекает не только изнутри вовне, но и извне вовнутрь, составляя целокупное любой уникальной жизни, или то был мой самообман, и надо было сразу замкнуться, заткнуться, оставить путь как ложный? Нет у меня ответа. Киньте в меня камень за измену себе, за вхождение в несчастный кругооборот, когда, преступив младые идеалы нежного нашего деликатного меньшинства, я обратилась — повело! — к канцелярской практике заскорузлого вашего грубого большинства. Я приму ваш удар.
Mea сulpa.
Я и есть орудие судьбы.
Или я выбрала себе очередного Вергилия.
Всегда выбирала себе Вергилиев сама. Доморощенных ли, масштабных, не суть. Исправно спускалась в ад и выгребала из адской кучи по случаю, ведомая якобы.
Может, то была битва между личностью и социумом. Выигрыш социума обеспечивал проигрыш личности.
Фантазийная девочка, говорила про меня моя мать.
4
Санек Оприянов, по прозвищу Опер, посоветовал: сядь и напиши про это роман.
Вот сволочь. Он уже посоветовал, чтобы я написала Марину. Я написала. И что? Успеха не имела не моя пьеса, а моя личность. Чехов. Возможно, господин Случай прихотливо использовал Саню Опера в своем промысле, как он использует в промысле всех нас.
5
Окоемов проник в комнату под заоконный вой авто неожиданно тихо, как кошка на мягких лапах. Я обернулась, он был тут как тут, в черной безрукавке, отороченной кошачьим, но, может, и собачьим мехом, она скрадывала узкогрудость, узкоплечесть, сутулость, с неуместным в корявых, жилистых, тяжелых, как отбойный молот, руках изящным подносом, на подносе тонкие чашки с блюдцами и чайными ложками, сахарница и корзиночка с пряниками — все. Похоже, собственные руки позировали ему для знаменитой картины. Что ж так долго готовил? Нелепая мысль, что наблюдал за мной через какое-нибудь потайное отверстие — помотала головой, избавляясь от нее. Я была не голодна, сахара я не ем, пряника к свежезаваренному чаю было довольно. Приступайте к рассказу, сударыня, он вперил в меня черные, как уголья, глаза. К какому рассказу, сделала вид, что смутилась, я, вы приступайте, я что. У меня чуть не слетело с губ: я никто, вы всё. Слава Богу, не слетело. Задавайте вопросы, разрешил он, но вперед я задам: как вы, что вы, замужем, не замужем, есть ли потомство, много ли дружеств, радостный вы человек или удрученный, вы говорите, а я буду сверять. С чем сверять, недоуменно спросила я, пораженная простотой, естественностью и правильностью вопросов, как если бы у него была моя, а не его профессия и это он пригласил меня на интервью, а не я пришла к нему. Черные уголья жгли, иссиня-красный рот под жесткой щеткой усов не растягивался даже и в подобие улыбки, он был суров, как учитель, принимающий экзамен у ученика. Суровость подчеркивала стрижка горшком, делавшая его схожим со средневековым монахом-иезуиитом. Можно было предположить, что он красится, настолько черен горшок, если б не проблески серебра кое-где в общей массе черни. С чем сверять, да с первым впечатлением, отозвался он, и я опять не могла не отметить простой и естественной логики его речей. Вздохнув, принялась за отчет. И лишь когда перечень пунктов подходил к концу, сообразила, что не стоило делать этого столь истово, а лучше бы попробовать легким лукавством смягчить его суровость, поиграв в чересполосицу искренности и умолчаний. Он, однако, неожиданно смягчился сам, оценив: все сходится, кроме одного, — при этих словах широкие скулы его приподнялись вверх, глаза превратились в узкие щели, сидевший картофелиной на рыхлой физиономии нос с несимметрично вырезанными ноздрями сморщился в переносице, обнажились крепкие лошадиные зубы и сумрачное выражение враз сменилось таким заразительно смешливым, что я невольно расхохоталась. Я собиралась спросить, а что не сходится, — он опередил меня. Видите, погрозил он пальцем, а говорите, печальная, а я пока веселого не сказал, я скажу, я обязательно скажу, хотя бы затем, чтобы заставить вас развеселиться, вам это идет. Это всем идет, распустила я язык, человек бывает удручен наедине с собой, но настроение запросто может перемениться, если у него такой собеседник. Какой, резко остановил он меня. Такой, сделала я неопределенный жест. Неопределенность бывает выразительнее определенности.