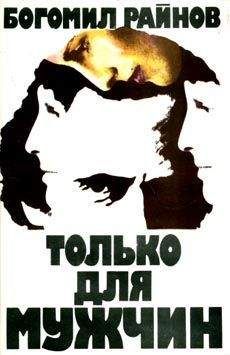Райнов Богомил - Инспектор Антонов рассказывает
Кое-кто может сказать, что я трачу драгоценное время, теряю темп и что мой поезд вообще уходит. Убийца, если таковой существует, воспользуется моей медлительностью, чтобы уничтожить улики. Улики? Какие именно? Испачканные носки, которые сгорят за пять минут. Отмычку, которую можно швырнуть ночью в любой канализационный люк. Перчатки, похожие на тысячи себе подобных. Вероятно, и испачканные мелом во время спуска на балкон свитер или рубашка, которые после нескольких движений щетки снова станут чистыми. Вот эти улики. И если предполагаемый убийца не дурак, он наверняка уже от них избавился.
Есть, однако, улика, которую не так-то легко уничтожить. И эта улика — если она вообще существует — наверняка не может быть уничтожена, а только спрятана. Спрашивается, где? И, конечно, от кого? А ответ на эти вопросы требует известной работы мозга, и по возможности не вхолостую.
И вот я сижу за своим столом, связываюсь по телефону с различными службами и вообще стараюсь полностью использовать авторитет своего учреждения. Потому что — не помню, говорил ли я уже об этом, — инспектора, которые действуют голыми руками, встречаются только в романах.
Когда меня вызывают к шефу, я как раз перелистываю документы, собранные в темно-зеленой папке.
Полковник встречает меня стоя за своим столом, кивает в знак приветствия, указывает рукой на кресло и тут же — небрежным жестом — на деревянную коробку на столе, ^го означает «можешь курить» и в то же время «готовься к подробному докладу».
— Ну, что новенького? — спрашивает шеф, дождавшись, когда я сяду и закурю.
Излагаю с максимальной краткостью установленные до сего времени факты, стараясь не пропустить ничего существенного, несмотря на то, что полковник, наверное, уже в курсе дела и осведомлен о наиболее важных деталях.
— Не понял, почему хозяйка так рано звонила Асенову…
— Носила ему завтрак. В семь часов, как обычно. Асенов не любил залеживаться.
— Что в показаниях Манева и Коевой?
— Ничего интересного, кроме того, что они полностью совпадают. Скандал преподносится обоими как сцена ревности.
Шеф задает еще несколько вопросов о том о сем, попадая точно в те места, где я допускал промахи. Потом следует неизменное:
— Каковы твои версии?
Снова краткое изложение с моей стороны, на этот раз богато приправленное выражениями, вроде «если», «в том случае, если» и «возможно». Полковник слушает меня задумчиво, что дает мне возможность как бы по рассеянности закурить вторую сигарету. Шеф не курит и очень не любит, когда в его кабинете усиленно дымят.
— Думаю, что пока ты правильно очертил круг, — кивнул полковник, после того как я замолчал. — И все же имей в виду, что решение задачи может оказаться и вне круга.
— Понятно, — отвечаю я и собираюсь встать. Но полковник останавливает меня жестом:
— Надо иметь в виду и другое — действовать следует как можно быстрее. Ты знаешь, Антонов, что я считаю тебя хорошим работником и не имею привычки вмешиваться в твои дела, хотя иногда ты проявляешь излишнюю самоуверенность и используешь некоторые… ну, назовем их, своеобразные методы допроса. Но на этот раз случай особый, и надо об этом помнить. Речь идет о смерти, может быть, насильственной, подданного другой страны. У нас подобного, как ты знаешь, до сих пор не случалось, и это происшествие — на руку вражеской пропаганде. То, что Асенов — болгарин, также будет использовано эмигрантскими центрами в спекулятивных целях. Короче говоря, уголовное преступление будет представлено как политическое убийство. Именно поэтому необходимы быстрые действия, но эта быстрота не должна, естественно, мешать правильному ходу следствия.
— Ясно, — говорю я и встаю.
И вот я снова над зеленой папкой. Потому что быстрота быстротой, но следствие нельзя вести со скоростью мотоцикла.
Документы в зеленой папке — это в основном протоколы допросов, отражающие эпизоды из биографии той самой доброй девицы Магды Коевой. Девица явно была очень добра ко многим, исключая саму себя. Беспорядочные и частые связи с иностранцами. Оплата наличными или натурой — кофточки, белье, косметика. Безделье и кутежи в шикарных заведениях. Предупреждения и торжественные обещания начать работать. И другие подробности в том же духе. Последние из имевшихся данных — полуторагодичной давности. Будем надеяться, что поведение Магды с того времени изменилось. Исполненный таких надежд, выуживаю из протоколов на всякий случай несколько имен. Потом прошу принести мне другую папку, связанную с одним из этих имен.
Я уже кончаю со второй папкой, когда вошедший лейтенант сообщает, что меня ожидает некто Пенев. Приходится немного собраться с мыслями, чтобы вспомнить, что этот Пенев проживает совместно с Моньо и Спасом и что я сам велел его вызвать часа два тому назад.
В двух словах объясняю новоприбывшему, в чем дело, и прошу его рассказать мне о личностях Спаса Влаева и Моньо Кирова.
— Гангстеры! — коротко отвечает Пенев и замолкает, полагая, что выполнил свою задачу.
— Что вы под этим подразумеваете?
— Я же говорю вам: гангстеры! Из-за них просто не уснешь! Что ни вечер — магнитофон, визг, песни, и так до поздней ночи.
— Еще что-нибудь?
— Да разве этого мало? Я же трудовой человек. И при этом — бухгалтер. Мне нужна собранность. Перепутаешь цифру — и окажешься за решеткой. А после бессонной ночи…
— Я отлично вас понимаю, — прерываю я его. — Но на что живут эти двое? Чем занимаются? С кем общаются?
— С кем общаются? С такими же паразитами, как они сами. Ходит какой-то художник Филипп, какой он там художник — черт его знает, шляются всякие подонки… И Спас, и Симеон вроде бы студенты юридического, но как они учатся, когда учатся — один бог ведает. Спас дерет деньги со своей матери, а Симеону шлют родители из провинции. Отец его, говорят, видный человек, но пока что ни разу не догадался хоть глазом глянуть, как сынок тут проматывает его денежки…
Пенев продолжает еще немного в том же духе, при каждом слове поминая бога и черта, пока я наконец не переключаю его внимание на прошедший вечер.
— Вечером начали пьянствовать еще засветло. По правде говоря, этот Спас по части выпивки не очень, зато Моньо пьет и за живых и за мертвых. Перво-наперво они включили магнитофон, и понятно, на всю катушку, аж в ушах зазвенело. Есть у них одна такая «Бразильская мелодия» — и как им не осточертело ее слушать, одному богу известно. Я уже знаю ее так, что и во сне она мне снится, а что до них…
— Прекрасно вас понимаю. Ну, а потом?
— Потом, когда им надоел магнитофон, запустили радио.
— В котором часу?
— Около восьми. Во всяком случае перед выпуском новостей.
— Значит, радио Софии?
— Да. А к одиннадцати включили другую станцию.
— Почему вы думаете, что к одиннадцати?
— Потому что я тоже слушал радио, и, пока у них передавала София, мне это не мешало. А около одиннадцати, как раз на эстрадной музыке…
— Когда они угомонились?
— Как обычно, после полуночи. Не раньше двух.
— Кто-нибудь приходил к ним за это время?
— Никто не приходил.
— Не приходил или вы не слышали, чтобы кто-нибудь приходил?
— Не приходил, — настаивает Пенев. — Моя комната у самой двери, так что я все слышу.
— А кто-нибудь из них выходил?
— Не заметил.
— Не заметили или не выходил?
— Не заметил, — снова заупрямился Пенев. — Потому что тот, Спас, имеет дурацкую привычку вылезать в окно, и, если он вылез в окно, я не мог этого заметить. Квартира у нас, знаете, на первом этаже, и этот разбойник привык прыгать из окна прямо во двор…
— Что-нибудь еще заметили или услышали?
— Что можно услышать в этом гаме? Раз уж я тут, у вас, скажите, нельзя ли найти какую-нибудь управу на этих бандитов?
Объясняю гражданину, что мой отдел не занимается вопросами такого характера и провожаю его до дверей. Потом смотрю на часы, отдаю последнее распоряжение по телефону и снова покидаю свой кабинет, намереваясь «навестить» студентов.
Женщина, которая отозвалась на мой короткий, но энергичный звонок, вероятно, ровесница Гелевой, но увы — ни намека на бойкое поведение матерой соблазнительницы. Говорят, что человек имеет возраст своих артерий, но я считаю, что дело тут скорее в каком-то жизненном тонусе.
Увядшее лицо, беспокойный взгляд, поредевшие волосы, выкрашенные в неопределенный цвет, отдающий желтизной, плюс такой же неопределенный запах, в котором не знаешь, чему отдать предпочтение — духам, камфоре или валерьянке.
Мое служебное удостоверение усиливает беспокойство женщины:
— Вы к Спасу? Он только что ушел. Неужели опять натворил что-нибудь?
— Понятия не имею, — отвечаю уклончиво. — Вот это и надо выяснить.