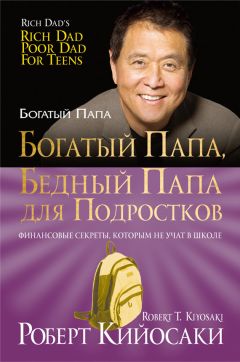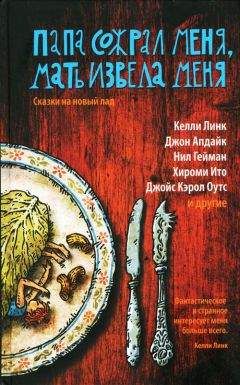Нара Плотева - Бледный
Сбрызнув себя парфюмом, Девяткин оценил свой внешний вид и вздохнул. По той иронии, с какой его мозг оценивал тело, он понял, что разум чужд плоти, что он с ней в связях раздельных, в связях субъекта и подчиненного объекта. Он прошёл в спальню, видя, что клоун крутится на ветру за стёклами, но повёрнут лицом к нему; красный глаз вглядывается внутрь, подсматривая. Странно, подумал он, что у клоуна брови вразлёт, как у Лены, и ещё чем-то странно напоминает Лену. Странно, что она восприняла игрушку как символ юбилея.
На лестнице он столкнулся с ней.
— Милый, когда назад?
— В восемь.
— Съездим, возьмём что к празднику? У Прониных было класс. Не хочу уступить. У нас будет лучше. Папа дал денег.
— Может, — сказал Девяткин, — ты возьмёшь мою фамилию в честь юбилея?
Она обняла его.
— Я люблю тебя, но хочу быть собой. С твоей фамилией я исчезну как личность. Это моя… пусть слабость. Позже, может быть… Но если хочешь, если считаешь, что тебе лучше…
— Не ставь меня в положение палача, — сказал он.
— Милый, я так люблю тебя!
— Завтракаю, — сказал он, — в банке. Пора.
— Ладно, — выдохнула она.
Когда он выехал из гаража на своём «Форде» и вылез, чтобы открыть ворота, она очутилась рядом, бросилась к нему.
— Не езди! Наври им, что заболел. В честь нас. Не езди!
Его охватила слабость. Казалось, не поедет — и жизнь изменится, будет новая, непохожая на былую, жизнь подлинная. Шёл бой: любовь спорила с необходимостью, с нормами, с правилами. Любовь велела быть вместе — мир разлучал их. Любовь звала к воле — мир навязывал ярмо. Здесь и сейчас можно было начать великую сказку… Ветром из-за стены вынесло вдруг клоуна, бледного, сморщенного. Порыв прошел, и стало ясно, что предложение жены нелепо, что если есть освобождающая сила, то не в любви. Напротив, свободное существо именно любовь отдаёт сперва другому, а потом мается в цепях выдуманных условностей.
— Он гад, — сказал Девяткин.
— Милый, он так хорош! Не ты его привязал?
Девяткин смолчал, не зная, что ответить. Лишь сотовый вновь напомнил ему о необходимом и однозначном.
— Всё. Зовут, — пояснил он, пряча смартфон.
Она осталась на участке, точно на острове, на который он мог не вернуться.
А он уже ехал мимо таких же, как у него, домов.
Свернув направо, он влился в строй иномарок, спешащих в Рублёво-Успенское, и пополз в пробке.
Так будет долго.
С тех пор, как поселился здесь, он ежедневно, по будням, вливался в колонну и полз за банкиром, или актрисой, или политиком (а порой за бандитом), которых знает вся страна, либо же за таким, как сам, клерком… Дальше пойдут виллы, откуда выворачивают с мигалками под охраной министры и прочий кремль. Виллы — мечта всех не столь избранных. Невозможность всем быть наверху компенсируется возможностью шикануть автомобилем. Менеджер по продаже яиц рулит «Хаммером», будто босс шоу-бизнеса, а начальник отдела газового холдинга «Мерседесом» и уравнивается с президентом сталелитейной фирмы. Парад тщеславий! Девяткин водит престижный «Форд». Он соответствует.
Путь долог из-за проклятых пробок. Сцепление… скорость… стоп — и так сотни, тысячи раз до центра.
Лишь оказавшись в рутинном строю, он понял, что допустил ошибку. Следовало бы остаться, гнёт обстоятельств невыносим ему. Цикл движений, напоминающий труд подъяремного скота, бесил. Будто над ним глумились. Он, живой, — реле с переключением от операции к операции. Следующие восемь часов он будет вновь реле — мозговым. Мысль, что разум чужд жизни и крайне критичен по отношению к ней, его зацепила.
А что, собственно, происходит?
А то, что каждый день миллиарды людей разум влечёт к трудам, которых жизнь не хочет. Он едет в банк, меж тем как его жизнь мучается. В банке разум будет сводить жизнь к схемам, жизни совершенно ненужным, да ещё коря её за леность. А в результате банк богатеет… но когда-нибудь сгинет, как сгинули банки Древнего Рима и Финикии. Разум терзает жизнь, чтоб затем на уикенд дать «отдых» — направить к новым трудам, семейным.
Что же такое мозг строит, если это оборачивается казнью жизни?
Что оправдывает такие муки?
Он думал, но не додумался. Пробка так утомляла, что он, кипя, слушал радио и ругался. Он в мат влагал боль неведения, как жить.
Он не знал, как жить и как сделать, чтобы избежать рабства, принуждающего к правилам. Он устал быть винтиком. Люди двигались, подобно деталям в машине; кто выпадал, кто встраивался. День походил на день. Жизнь можно перечеркнуть, оставив лишь один такой день в качестве слепка всех тридцати тысяч дней людских… Выход в карьере, думал Девяткин. По крайней мере, возникнет новое: новые должностные обязанности, кабинет, знакомства. Ему полагалась по возрасту следующая ступень. В пятницу он сдал важный анализ банковской ситуации. Одобрение и принятие выкладок к проекту означало бы взлёт. Может, он и остался бы дома с Леной, если б вдруг не позвонили и не сообщили, что обсуждение будет сегодня в одиннадцать. Успех так был для него важен, что он счёл утренний страх, мысли о жизни, раздражение и стычку с тестем последствиями этого напряжения. Грохот строителей, плотный туман и появление клоуна были проявлениями напора мира. Он хотел возвысится в нём, только чтобы снизить этот напор.
Он думал, что в «общественной пирамиде» низшие классы испытывают гнёт самый сильный, но чем ты выше, тем груз меньше, президент же — самый свободный.
Втиснуть машину перед банком сложно: центр, узкие улицы. Лишь с должности зампредседателя есть доступ на VIP-стоянку. Девяткин вылез и встретил Сытина, начальника отдела по работе с клиентами. С ним он дружил.
Сытин курил, подавая руку. Был он высок и толст, одевался дорого, и всем нравился его нрав, спокойный, вдумчивый. Верилось, что такой человек не будет уходить от проблем и всегда поможет. Жил Сытин одиноко, был сыном банкиров, правда, советских. Дач не любил, отпуск же проводил в Лондоне, где выглядел более англичанином, чем они сами.
— Еле тебя разглядел в тумане… Нынче твой звёздный час? — спросил он, не ожидая ответа, — так, словно констатировал факт.
Банк основали в девяносто третьем. Тогда к председателю заходили прямо с улицы, стены были грязные, двери дерматиновые, всё ещё сохраняло советский простецкий стиль. Но тогда уже появились миллионеры, желавшие открыть счёт. В девяносто шестом председатель погиб. Новый не был актёром — был дипломатом и в девяносто седьмом бежал в Англию. Третий их председатель — специалист из Гарварда. Помещения гламурованы, сплошь изыск, порядок. Служащие в костюмах. Банк — финансовый инструмент нефтяной компании — процветал, но председатель требовал изыскивать новые, передовые, высокотехнологичные рынки и клиентуру.
— Придёшь в субботу? — спросил Девяткин, сунув пропуск охраннику.
— Неприятный день, — сказал Сытин. — Все едут за город… Но что делать? Надо отпраздновать юбилей безумия. Брак — безумие и попытка каждого пола взорвать другой, для чего живут вместе в ненависти-любви.
— Придёшь?
— Приду.
— Знаешь, — Девяткин сказал вдруг, — что-то со мной сегодня… то ли не выспался, то ли клоун…
— Клоун?
— По воздуху прилетел.
— Радио, — сказал Сытин, — передало, на Рублёвке к вице-премьеру тоже прилетел клоун, но вздумали подойти — и он лопнул.
— Клоун — пустяк, — прервал Девяткин. — В воздухе чего только нет… Ведьмы, тарелки… Но тут другое… Не объяснить. Жил-жил — оказывается, не так. Впрочем, нет доказательства, что не так. Предчувствие…
Сытин тронул его плечо. — Поговорим потом. Помни: собака лает, а караван идёт. Это психический сбой. Крепись. У психики свои законы, у жизни — свои. В нас порой титанические страдания, муки Тантала — но кто их видит? Видят: пришёл, поработал, ушёл. Психики не видать. Её видать в деле. Если не проявляется — не дозрела и не должна тебя волновать.
— А вдруг психика, — заявил Девяткин, — важнее дел? Срыв в ней может быть оттого, что нечто эдакое близко? Есть же механизм предчувствий?
Сытин поправил очки:
— Пей пиво и будь спокоен. Обговорим всё…
И был таков.
Девяткин вошел в кабинет, сел, включил компьютер и, упершись в стол локтями, стал потирать лоб. Он чувствовал: не может работать, может лишь думать о психике, что «дозревает», как сказал Сытин, о клоуне, тумане и прочей мистике… Взял сотовый.
— Лена… — сказал он, не зная, что хочет и для чего звонит. — Катя где?
— Уехала с папой. Я намекнула, что у тебя скоро отпуск, мы летим в Грецию. Он предложил Гавайи.
— Опять за его счёт? — спросил Девяткин.
— Ради меня! Ты трудишься, у тебя новые впечатления, а все мои впечатления — кухонная плита. Мне скучно. Чувствую, что я нуль… Хочу на Гавайи, хотя б потому, что Дашка была там, а я не была! Хмыкает и намекает, что ты отстой и жизнь видела лишь она.