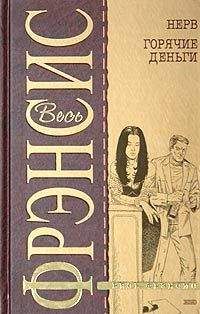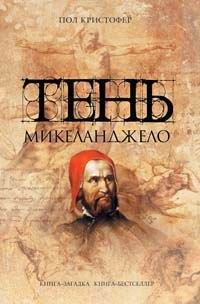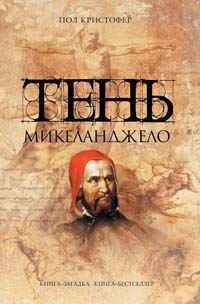Дик Фрэнсис - Нерв(Смерть на ипподроме)
2
Дома в Кенсингтоне (Фешенебельный район Лондона, где живут артисты, музыканты, художники. Здесь и далее – прим. пер.) никого не было. Как обычно, гостиная выглядела так, будто совсем недавно на нее налетел небольшой торнадо. На рояле матери громоздились партитуры, некоторые из них каскадом упали на пол. Пюпитры в позе пьяниц валялись вдоль стены, выставив треугольники ног, на одном из них висел скрипичный смычок. Сама скрипка опиралась на спинку кресла, а ее футляр лежал на полу сзади, виолончель и ее футляр стояли рядом около дивана, бок о бок, будто любовники. Гобой и два кларнета прижались друг к другу на столе. Неряшливая, застывшая музыка. И по всей комнате, на всех стульях, принесенных из спальни и заполнявших свободное пространство пола, белел богатый выбор шелковых носовых платков, канифоль и дирижерские палочки.
Пробежав опытным взглядом по разбросанным вещам, я определил, что недавно тут музицировали мои родители, два дяди и кузен. И поскольку они никогда не уезжали далеко без инструментов, я мог безошибочно утверждать, что квинтет отправился на небольшую прогулку и очень скоро вернется. Я с удовольствием подумал, что в моем распоряжении небольшой антракт.
Проделав себе проход, я выглянул в окно. Никаких признаков возвращения Финнов. Квартира занимала верхний этаж дома, двумя-тремя улицами отделенного от Гайд-парка, и через гребни крыш я мог видеть, как вечернее солнце бьет в зеленый купол Альбертхолла. Позади него высился темный массив Королевского института музыки, где преподавал один из моих дядей. Полные воздуха апартаменты, штаб-квартиру семьи Финнов, отец снимал из экономии, так как они были расположены вблизи того места, где все Финны время от времени работали.
Один я остался не у дел. Я не унаследовал талантов, которыми так щедро наделена родня обоих моих родителей. Они с горечью убедились в этом, когда мне было четыре года, и я не смог отличить звуки гобоя от английского рожка. Для непосвященного, может, и нет между ними большого различия, но отец имел счастье быть гобоистом с мировой славой, и все другие музыканты мечтали сравняться с ним. К тому же музыкальный талант, если он есть, проявляется у ребенка в самом раннем возрасте, гораздо раньше, чем другие врожденные способности, и в три года (когда Моцарт начал сочинять музыку) на меня концерты и симфонии производили меньше впечатления, чем шум, создаваемый мусорщиками, когда они опрокидывали в машину бачки.
К тому времени, когда мне исполнилось пять лет, огорченные родители вынуждены были признать тот факт, что их ребенок, зачатый по ошибке (я стал причиной того, что пришлось отменить важные гастроли по Америке), оказался немузыкальным.
Моя мать никогда ничего не делала наполовину, поэтому меня между занятиями в школе постоянно отправляли куда-нибудь к знакомым фермерам под предлогом укрепления здоровья, но на самом деле, как я позже понял, чтобы освободить родителей для сложных и длительных гастрольных поездок. Пока я рос, между нами установились отношения, скрепленные своего рода мирным договором, по которому подразумевалось, что, поскольку родители не намерены ставить ребенка на первое место и он для них значит меньше, чем музыкальная репутация (то есть где-то на втором плане), то, чем реже мы видимся, тем лучше.
Они не одобряли мой рискованный выбор жокейской профессии лишь по одной причине: скачки не имели ничего общего с музыкой. Бесполезно было объяснять им, что единственное, чему я научился на фермах во время всевозможных каникул, – это ездить верхом (я был все же сыном своего отца, и фермерство вызывало во мне отвращение и тоску) и что моя нынешняя профессия – прямой результат их действий в прошлом. К тому, что они не хотели слушать, мои родители, наделенные абсолютным слухом, были высокомерно глухи.
Я пошел к себе в спальню и окинул взглядом маленькую комнату со скошенным потолком, переделанную для меня из чулана, когда я вернулся домой после своих странствий. Кровать, комод, кресло, стол и на нем лампа. Импрессионистский набросок скачущей лошади на стене напротив кровати. Никаких безделушек, несколько книг, абсолютный порядок. За те шесть лет, что я скитался по свету, я привык обходиться минимумом вещей, и, хотя я занимал эту маленькую комнату уже два года, я ничего не добавил в нее.
Я переоделся в джинсы, старую полосатую рубашку и задумался, чем занять время до следующих скачек. Беда была в том, что стипль-чез вошел мне в кровь, подобно страсти к наркотикам, так что все обычные удовольствия стали просто способом провести время, отделяющее одни скачки от других.
Желудок подал сигнал чрезвычайного бедствия: последний раз я ел двадцать три часа назад. Я отправился в кухню. Но прежде чем я дошел до нее, парадная дверь с шумом открылась, и в дом ввалились мои родители, дяди и кузен.
– Привет, дорогой, – бросила мама, подставляя для поцелуя нежную, приятно пахнувшую щеку. Так она приветствовала всех, от импресарио до хористов из задних рядов. Материнство не было ее стихией. Высокая, стройная, шикарная; ее стиль казался небрежным, но родился в результате серьезного обдумывания и больших затрат. По мере приближения к пятидесяти она становилась все более и более «современной». Как женщина она была страстная и темпераментная, как артистка – первоклассный инструмент для интерпретации гения Гайдна, его фортепианные концерты она исполняла с магической, щепетильной, экстатической точностью. Я видел, как самые суровые музыкальные критики выходили с ее концертов со слезами на глазах. Поэтому я никогда не ждал, что на широкой материнской груди найду утешения в моих детских горестях, и никогда не ждал возвращения мамы, которая испечет сладкий пирог и заштопает носки.
Отец, всегда относившийся ко мне с деликатным дружелюбием, спросил в форме приветствия:
– У тебя был хороший день?
Он всегда так спрашивал, и я отвечал «да» или «нет», зная, что на самом деле его это не интересует. Я ответил:
– Я видел, как застрелился человек. Нет, это был нехороший день.
Пять голов повернулись в мою сторону. Мать воскликнула:
– Дорогой, что ты имеешь в виду?
– Жокей застрелился на скачках. Он стоял меньше чем в двух метрах от меня. Это было ужасно.
Все пятеро теперь стояли и смотрели на меня, раскрыв рот. Лучше бы я не говорил им, в воспоминаниях все казалось гораздо страшнее, чем тогда.
Но на них это не подействовало. Дядя, «виолончель», со щелчком закрыл рот, вздрогнул и пошел в гостиную, бросив через плечо:
– Раз ты ходишь на такие эксцентричные гонки… Мать проводила его глазами. Когда он поднимал свой
инструмент, прислоненный к дивану, раздался звук басовой струны. И. это подействовало на остальных, как неотвратимое притяжение магнита, они потянулись за ним. Только кузен в задумчивости задержался на несколько минут, оторванных от Искусства, затем и он вернулся к своему кларнету.
Я прислушался: они рассаживались, пододвигали пюпитры, настраивали инструменты. Потом начали играть быструю пьесу для струнных и деревянных духовых, которую я особенно не любил. Квартира вдруг стала невыносимой. Я вышел, спустился вниз на улицу и отправился не зная куда.
Было только одно место, куда я мог пойти, если мне хотелось покоя, но я не позволял себе приходить туда часто из опасения, что наскучу своими визитами. Прошел уже целый месяц, как я не видел кузину Джоанну, и мне было необходимо ее общество. Необходимо. Вот единственно правильное слово.
Она открыла дверь с обычным выражением веселого и доброго гостеприимства на лице.
– Вот это да! Привет! – сказала она улыбаясь. Я последовал за ней в большой перестроенный каретный сарай, который служил ей гостиной, спальней и комнатой для репетиций одновременно. Половина крыши была скошена и застеклена, и сквозь нее еще проходил свет заходящего вечернего солнца. Размеры и относительная пустота помещения вызывали необычный акустический эффект: если говорить громко, создавалось впечатление, что голос доносится из соседней комнаты; если же кто-нибудь пел – а Джоанна пела, – то возникала полная иллюзия отдаленности и усиления звука, отраженного бетонными стенами.
Голос у Джоанны был глубокий, чистый и звучный. Когда она пела драматические пассажи, то при желании она украшала их нарочитой хрипотой, и получалось очень эффектное подражание звуку надтреснутого колокола. Джоанна могла бы сделать состояние на исполнении блюзов, но она родилась в семье истинно классических музыкантов, в семье Финнов, поэтому о коммерческом использовании таланта не могло быть и речи. Блюзам она предпочитала песни, которые мне представлялись немелодичными и не приносящими вознаграждения, хотя она, казалось, добилась приличной репутации среди людей, любивших такого рода музыку.
Джоанна встретила меня в старых джинсах и черном свитере, измазанном кое-где краской. На мольберте стоял полузаконченный портрет мужчины, и рядом на столе лежали кисти и краски.