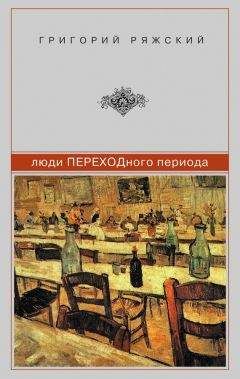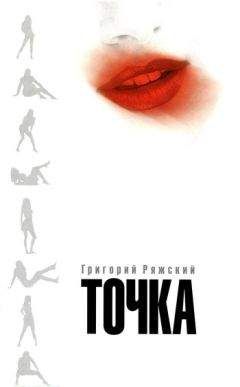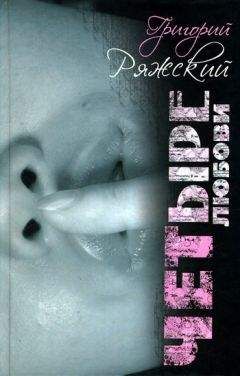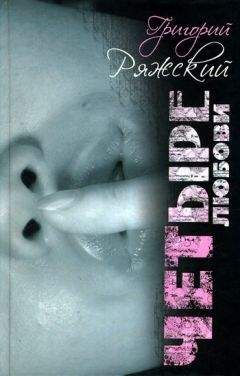Григорий Ряжский - Музейный роман
А то и иное подоспеет, ещё более занятное, хотя стóит и не так против «купеческого». Заказ, скажем, на реставрацию чего-нибудь эдакого от века восемнадцатого, девятнадцатого — всего лишь пристроить к проверенным людям, которые надёжно в теме — и насчёт тонкостей самой работы со всеми нужными делу нюансами, и в смысле умения привинтить язык к нёбу так, чтобы разучился шевелиться, когда не нужно, ну и проследить, само собой, чтоб не кинули, не подменили. Атрибуция-то, ежели ей быть как должно, — честь по чести, не схоранивая предмета от злых людей, которые не в доле, описание там… техника, размеры, авторство и, возможно, провенанс [1] — в особо тяжёлых случаях, где на кону уже не просто миллионы, — так она просто-напросто невозможна по определению, в силу тех же самых криминально окрашенных резонов. И потому остаётся — кто? Остаётся спец, мастер, авторитетный человек с именем, за которым не придётся бегать и подчищать — в правильном, разумеется, смысле, в творческом. Он и остаётся, Лев Арсеньевич Алабин, хороший человек именно с таким, как нужно, подходящим делу именем.
Имелось ещё одно направление в делах Льва Алабина, не менее бюджетоёмкое в сравнении с остальными, но как нельзя более опасное. Тут уж требовалась осторожность тончайшая, доводочная и великий, великий опыт подобных предприятий.
Началось как-то само, почти незаметно, считай самотёком. Купил, прогуливаясь по парижской блошинке, пару чердачных работ — гравюру и карандашный рисунок, за полсотни копеечных французских франков, у никакой бабульки, случайной, как и сам в качестве начинающего добросовестного приобретателя. «Чердачных» — поскольку знал уже, что стекаются по выходным в это привычное многим место залежалые тётеньки и дяденьки преклонных годов, которые, перебирая порой на замусоренных чердаках наследную рухлядь, плесневеющую в фамильных сундуках и причудливых баулах, нередко натыкаются на незнаемое, не виденное раньше. Эти бесконечные пыльные папки, от коленкоровых, податливо-мягких, ещё не окончательно источенных безжалостной молью времён, до кожаных, с бронзовыми вензелями на мягчайшей лицевой корке, веками поедаемых чердачным червём, но так и не изничтоженных до конца. А ещё — картонные и папье-маше, каких обильное множество: самые незатейливые, без знаков различия, без исторических погон, стянутые остатками не дожранной древесной личинкой льняной тесьмы. Какие — раздуты обильностью семейной летописи, какие — наоборот, толщиной лишь с воздух, зажатый меж верхом и низом, не более того. И наконец, если гулять по бумажной части — фотографии, с вуалью разводов по центру и краям медленно убиваемого старостью картона, с ретушью и без неё, ломкие, с загибом невозвратно усохших краешков, задранных вбок и вверх, коль уж остались когда-то без рамки и семейного пригляда. И лица, лица на них бесконечные, в которые поверишь, что были и жили, разве что сопоставив изображения с описанием, сокрытым, прячущимся в связках старинных писем, что перепоясаны выцветшими до седоватой мути ленточками гниловатого, пахнущего пылью и распавшегося волокном китайского шёлка. Тут же редкие, не сразу улавливаемые зрением осколки тонкого стекла, хрустящие под ногами; ну а дальше — в свободном незатейливом порядке — прочее, из чего произрастала когда-то, складывалась чья-то жизнь, наполняясь нужными мелочами и милыми пустяками. Вот перевёрнутая бронзовая вазочка, чуть подмятая в основании, валяется в тёмном отдалении чердачного пространства, куда почти не добивает тусклый свет от небольшого слухового оконца. Другого света нет — накладно, да и некстати он здесь, незачем уже, всё когда-то нужное и кому-то дорогое отжито и забыто, списано, оставлено усыхать, влажнеть и вновь усыхать, вымирая от голода, тьмы или жажды — без разницы. Дальше — из мебели, из габаритного наследства, овеществлённые остатки всё той же затхлой памяти, необратимо порушенной отсутствием всякой в ней надобы. Перевёрнутый стол — и никто и никогда уже не поставит его как надо: скорее вынесут во двор, на вывоз, или же поищут иного применения, поломав и разделав на каминную лучину. И никто не задумается более, из чего был он сотворён: то ли дуб морёный, то ли вдруг окажется палисандр, никем не разведанный, так бездарно утративший собственную родословную за время, пока жильцы умирали, рожали новых владельцев или же просто, съезжая с жилой площади, оставляли прошлое имущество новым проживающим.
Как-то случаем довелось попасть на один из таких чердаков парижской окраины: просто вежливо испросил у хозяев пустяковой вольности порыться в чердачной рухляди в поисках исторических артефактов и материальных примет эпохи, о чём в то время якобы собирался писать. До того момента они приятно выпили кальвадосу, все вместе, по-товарищески. И было всем им хорошо, особенно принимая во внимание беглый Лёвин французский. А ещё потому, что не успел пока забыть, как, вернувшись домой из прошлого вояжа во французскую столицу, удачно реализовал те две случайно срубленные на блошинке бабушкины вещицы. Получилось даже выше самых отчаянных его ожиданий, хотя и не по-одинаковому карта легла. Первую работу, тончайшего карандаша морской пейзаж, с великолепно проработанными волнами и не менее тщательно выполненным маяком, он отдал за какие-то безумные деньги, выдав её за карандашный рисунок неизвестного художника восемнадцатого века, примыкавшего к одному из направлений старинной фламандской школы. Именно это и сказал — так, казалось ему, прозвучит убедительней. Правда, знал, с кем имеет дело: тот бы по-любому не стал проверять, сразу б захоронил в специально оборудованном месте, имея в виду ясную цель встретить скорое будущее во всеоружии. Ну или, по крайней мере, детям встретить доведётся, коли уж не успеется самому.
Всё, абсолютно всё было непроверяемо, поскольку ни дат, ни подписи на работе не имелось, и это было чудесно, в этом присутствовала вольность действий и цельность результата. Имя Лёвино в ту пору ещё не работало достаточно, но сама профессия, как и неоспоримый факт доцентства в Университете, тоже кой-чего стоили. К тому же доцент Алабин пояснил, что этот неизвестный фламандец из прошлых веков практически гениален и наверняка, судя по качеству этой работы, примыкал к школе и даже к самой мастерской великого Рубенса. Иными словами, приходится пускай заочно, но говорить, скорее всего, об авторстве Яна ван Гойена или как минимум Клааса Берхема. Кстати, сам-то он, если взять, скажем, Берхема, и в Эрмитаже имеется, «Итальянский дворик» работа называется, так что при случае можно сходить зарядиться духом его, схожестью манеры, гениальностью карандаша. «Дворик» этот, как помнилось Алабину, был писан маслом, но это не помешало Лёве, будучи уверенным, что на этом сделка завершится прижизненной похоронкой, упомянуть того в качестве рисовальщика. Так уж само на язык легло в тот момент.
Финал успешного плацебо такого масштаба он на всякий случай прикрыл скороговоркой, составленной из сведений, дополнительно усиливающих эффект удачного приобретения этого почти что шедевра. А именно: данный рисунок имеет неплохой, ко всему прочему, провенанс, зафиксированный исторической наукой, поскольку он доказательно пришёл из собрания миллионера-купца Рюмина, принесшего в 1873 году в дар Румянцевскому музею более двух тысяч работ — гравюр и рисунков старых европейских мастеров. И этот в их числе, само собой.
Так вот, порылся он в тот день на дружеском чердаке. И до этого ему, как запомнилось, уже было хорошо, но стало ещё лучше, когда, высветив фонариком проход от кучи хлама до убитого стула с выкрошенным маркетри, он обнаружил в углу заваленную набок литую, совершенной ажурной работы этажерку с разноцветными витражами эпохи модерна, неброско инкрустированную пластинками перламутра. Чистый ар-нуво. Нагнулся, высветил вновь фонарным лучом, вчитался, перевёл. Оказался — сам он, лично, да ещё с клеймом — Луи Мажорель, начало двадцатого века, изделие собственной мастерской, явно штучное, авторское, раз с личным тавром мастера. Так и ушёл с ней, закинув на плечо и кряхтя под весом изделия, объяснив бывшим владельцам, что вечно не достает до верхней полки в квартире, какую временно арендовал, а там — книги, так он вместо высокой табуретки использует её, если можно. Ну не стол же двигать, да? А те и не собирались вдумываться да всматриваться. Одно слово, легкомысленные французики.
В Москву вещь доставил тоже по дурке, открытым багажом, обернув покупку дармово прихваченным всё на той же блошинке клетчатым пледом и упаковав на вылете в плёнку. По прилёте в считаные дни выискал купца, знатока и истинного ценителя. Даже дурманить того не пришлось. Всё и так было настолько замечательно честным, к тому же, считай, в идеальном состоянии, что не понадобилось тащить и в реставрацию, где к тому моменту у Лёвы уже завелись правильные мастера, мебельщики-краснодеревщики, стеклянщики и прочая железярня: реставраторы не от сохи, имевшие опыт работы и устоявшуюся традицию не куковать лишнего, если специально не попросят.