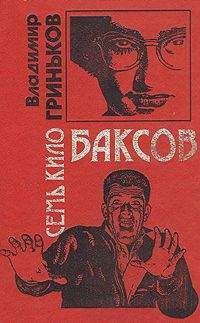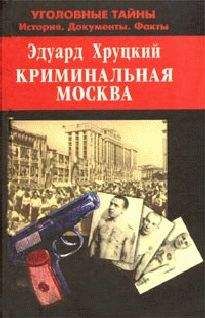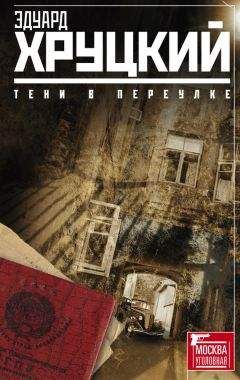Эдуард Хруцкий - Страх
– А он-то за что?
– Помнишь, в сорок втором он в партизанское соединение летал?
– Помню.
– Самолет подбили, он из немецкого тыла выходил.
– Но ведь он не партизан.
– Значит, тесть его подсуетился, как-никак, а он генерал и замнаркома.
– Непонятно.
– А чего непонятного: Муравьевым уже дважды из наркомата интересовались, спрашивали, какая у него перспектива роста.
– Что поделаешь…
Данилов не успел закончить фразу, в дверь заглянул Осетров:
– Капитан Лялин.
– Давай, – махнул рукой начальник.
В комнату вошли двое: замначальника Серебровский и Лялин.
– Товарищ полковник, капитан Лялин по вашему приказанию прибыл.
Начальник встал.
– Вот какое дело, Лялин. Начну с приятного. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 116 от 6 января сего года ты награжден медалью «Партизан Отечественной войны» первой степени. Поздравляю.
– Служу Советскому Союзу.
Начальник подошел к Лялину и прикрепил медаль к его кителю.
– А теперь садись, Лялин, поговорим о неприятном.
Лялин сел, настороженно оглядел начальника, Серебровского, Данилова.
– Ты мне скажи, друг мой Лялин, как ты данное явление оцениваешь. – Начальник протянул ему фальшивое удостоверение.
Лялин взял красную книжку, раскрыл, посмотрел, и кровь отлила от его лица.
– Ну, что скажешь? – Начальник забарабанил пальцами по столу.
– Не знаю, товарищ полковник.
– Скажите, капитан, где вам приходится снимать пиджак или китель, ну, к примеру, в гостях? – спросил Данилов.
– Если я, товарищ подполковник, где-то и снимаю одежду, то удостоверение в карман брюк перекладываю, – резко ответил Лялин.
– Вы не сердитесь, капитан, но дело мужское…
– Понял вас. Есть у меня подруга, работает в Советском райкоме комсомола, мы решили пожениться летом.
– А почему летом? – вмешался Серебровский.
– Она уехала уполномоченным в колхоз.
– Вы в баню ходите? – поинтересовался Данилов.
– Каждую среду идем вчетвером, трое моются, а один караулит, потом мы приходим, он моется.
– Если удостоверение всегда при вас, растолкуйте: как оно попало в чужие руки? – Данилов встал.
Лялин не успел ответить. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел замначальника московской милиции, начальник политотдела полковник Сажин. Данилов его терпеть не мог, потому что в этом маленьком худом человеке уживалось столько злобы и подлости, что вполне бы хватило на население города средней руки.
– О чем беседуете? – не здороваясь, спросил он.
– О делах наших невеселых, – зло ответил начальник.
– А это ты, полковник, прав. Дела у вас из рук вон плохие. Городом овладели преступники, а начальник ОББ[1] чаи гоняет. Так, что ли, Данилов?
Иван Александрович молчал.
– Ишь ты, какие костюмы-то носим в то время, как вся…
– Товарищ полковник, – лицо начальника налилось темно-багровым цветом, – попрошу по существу. А что касается костюма начальника ОББ, так отрезом его наградили за ликвидацию банды «докторов».
– Ты по существу хочешь? Изволь. Бдительность вы, дорогие товарищи, потеряли. Бдительность чекистскую. Поэтому и гуляют по Москве бандиты с вашими удостоверениями. Так что же, Лялин?
– Мое удостоверение при мне, товарищ полковник.
– Ишь, при мне, – передразнил Сажин и нехорошо покосился на колодку на кителе Лялина и новую медаль.
«Завидует. Он же завидует наградам Лялина», – понял Данилов.
Над карманом кителя всемосковского политрука скромно висели «Красная Звезда», «Знак Почета» и медаль «За трудовое отличие». Ее, кстати, в сороковом вручали обоим: Данилову и Сажину.
– Ты здесь партизанскими наградами не тряси, Лялин, – зло сказал Сажин. – Ты на нашей работе заслужи награды, тогда тебе честь и хвала. А пока ты, Лялин, утратил чекистскую бдительность. Ты знаешь, что такое красная книжечка работников органов? Это частичка нашего знамени. Понял?
Лялин молчал.
– А ты, значит, врагу это знамя отдал!
– Погодите-ка, товарищ полковник, – Серебровский вскочил, – это не разговор. Ты, Лялин, иди, делом занимайся, мы без тебя перетолкуем.
Капитан вышел из кабинета.
– Я смотрю, – продолжал Серебровский, – вы уже статью шьете боевому офицеру? – Он подошел к Сажину: – Ловко это у вас получается.
– А вы, товарищ Серебровский, не очень-то, не очень, – Сажин назидательно поднял палец, – у вас в личном деле тоже кое-что есть.
– За своих баб, товарищ Сажин, я готов отвечать на любом уровне, а вот офицеров наших марать не позволю.
– Все, – начальник хлопнул ладонью по столу, – товарищ полковник, у вас есть обоснованные претензии к руководству МУРа?
– Найдутся.
– Тогда давайте говорить об этом у руководства.
– Ну что же, там и поговорим.
Сажин вышел из кабинета, долбанув при этом дверью.
Данилов
Он вернулся в свой кабинет, снял пиджак, расстегнул воротник и расслабил галстук.
«Все-таки редкая скотина этот Сажин. Говорит от имени партии, как будто она состоит из него и сотрудников никому не нужного политотдела. Демагог и скотина».
Данилов прекрасно помнил, как тогда еще рядовой инструктор Сажин на партсобрании выводил на чистую воду работников милиции.
Это-то и предопределило его карьеру, в сороковом он стал начальником политотдела, а в сорок первом еще и замначальника московской милиции.
Когда формировалась милицейская бригада, в которой Данилов стал комбатом, Сажин залег в госпиталь с острым приступом аппендицита.
Знакомый хирург рассказал Данилову, что резали они так называемый холодный аппендицит. Закосил тогда Сажин, закосил. Зато потом свирепствовал, выявляя людей, недостойных звания чекиста.
Но надо было работать, и Данилов взял материалы по сегодняшнему делу.
* * *«Что же мы имеем? Некоего человека, представившегося Мартыновой как Боря из органов. На работе и по месту жительства Мартынова характеризуется положительно. Муж погиб в сорок втором, поженились они в феврале сорок первого.
Она рыла окопы, была бойцом ПВО, даже пожары тушила. Киномехаником была, обслуживала прифронтовые части. Соседи показали, что вела Мартынова образ жизни спокойный и трезвый.
Значит, этот Боря просто случайный роман.
Об убитом известно, что у него был пистолет ТТ и муровское удостоверение. Приходил он к Мартыновой не с пустыми руками, но приносил продукты и выпивку исключительно распространенную, пайковую.
Счет из коммерческого ресторана «Астория». Судя по количеству блюд, за столом было не менее четырех человек. Видимо, двое мужчин и две дамы. И гуляли они достаточно широко. Две бутылки водки, бутылка шампанского и две бутылки портвейна «Айгешат», четыре салата оливье, два салата из крабов, четыре порции ветчины, две языка отварного, четыре порции котлет по-киевски, мороженое, кофе, ликеры.
И деньги заплачены за это крутые – восемнадцать тысяч рублей. Такой счет должны наверняка запомнить».
Данилов поднял трубку и вызвал Муравьева.
Игорь явился немедленно. Был он в форме. Последнее время Данилов заметил, что Муравьев носит исключительно форму, и, надо сказать, хорошо пошитую.
Как рассказал Никитин, Игорь получил отрезы и пошил все в правительственном ателье.
На кителе к двум орденским колодкам прибавилась третья, зеленая.
– Ты что же, Муравьев, зажал высокую награду? – усмехнулся Данилов. – Как-никак ты у нас партизаном стал.
– Сам не знаю, Иван Александрович, вызвали и вручили. Сказали, за тот полет к партизанам в сорок втором.
Игорь говорил искренне, и Данилов сразу поверил ему.
– Вот видишь счет из ресторана «Астория»?
– Вижу.
– Счет заметный, гуляли от души. А официанты на такое дело весьма памятливы.
– Там же наш агент Кочетков.
– С ним встретишься отдельно, покажешь фотографию, дашь задание. Кроме того, там постоянно крутится человек по имени Борек, его укажет руководитель ансамбля Кац…
– Его брать?
– Привезешь в управление. С тобой поедет Никитин, его Кац хорошо знает, и переоденься, возьми в хозчасти военную форму.
Муравьев
Они с Никитиным переоделись и стали офицерами-танкистами, другой подходящей формы у завхоза не нашлось. В финчасти им выдали триста рублей на оперативные расходы.
На эту сумму они могли выпить по чашке кофе и запить его бутылкой нарзана.
Ровно в восемнадцать часов они зашли в ресторан. Ох и красиво же было в «Астории»! Лепнина, золото, ковры, кабинки дубовые. Столы со снежными скатертями и блестящей посудой.
Зал еще полупустой, всего несколько столов было занято, но у Игоря появилось какое-то странно призрачное ощущение, которое приходило к нему только в детстве, когда в тридцать пятом разрешили официально праздновать Новый год.