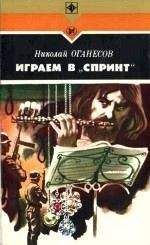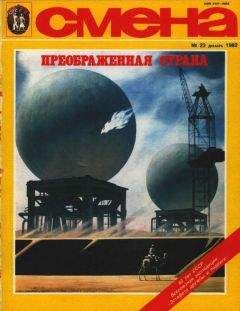Николай Оганесов - Двое из прошлого
Это ощущение не покидало меня по пути в военный трибунал, где я надеялся добыть дополнительную информацию. Речь шла об архивном деле по обвинению Дмитрия Волонтира, старшего брата нашего, как его называет Красильников, потерпевшего.
Архивариус, строгая сухонькая женщина с седыми, будто присыпанными пудрой буклями, отобрала выданное мне разрешение, бесшумно нырнула в коридор между стеллажами и так же бесшумно вернулась, сгибаясь под тяжестью пятитомного дела.
Стол мне отвели здесь же, в архиве, у выходящего на тихую улочку окна. Архивариус поставила передо мной стакан с остроотточенными карандашами, пачку бумаги для заметок и растворилась в закоулках архива.
С головой уйдя в работу, я постепенно начал терять представление о времени, о том, где нахожусь и зачем пришел: пять томов, аккуратно переплетенных в вощеный, цвета картофельной шелухи, картон, содержали огромный материал; их страницы были полны живой памятью о войне, ее ужасах и трагедиях. Лето сорок второго, зима сорок третьего, оккупация - слова, ставшие черными символами для тех, чьи свидетельские показания лежали передо мной. Леденящие сердце подробности дополняли документы, фотографии тех лет. Из закоулков памяти - мне приходилось видеть освобожденные от гитлеровцев города - всплывали жуткие картины того времени: заросшие бурьяном мостовые, трупы на безлюдных улицах, отброшенные от побуревших рельсов трамваи с разбитыми стеклами, обугленные, покрытые серой чешуей пепла заборы. Мои личные воспоминания были неотъемлемой частью воспоминаний людей, чьи свидетельства хранились в деле. Атмосфера тех лет так плотно обволокла меня, что минутами казалось, будто за окном, у которого я сижу, не тихая, мирная улочка, по которой неторопливо шествуют прохожие, а тревожная, полная смертельной опасности тишина замершего в оккупацию города, и там, за углом, - стоит выглянуть и увидишь протягивают к небу ветви искалеченные осколками деревья, стоят черные от копоти скелеты зданий, красные, как сгустки крови, раскачиваются на уцелевшей арматуре кирпичные болванки. Развалины, бывшие до бомбежек жилищем, домом, Родиной...
Мне невольно пришло на память: морозная ночь сорок третьего, пустынная, продуваемая сквозным ветром улица и приближающиеся шаги немецкого патруля...
Нас было трое, ребят с одной улицы, бывших учеников шестого "Б" класса. Старший из нас, Валерка, стоял на углу, метрах в тридцати, чтобы предупредить в случае опасности, а мы с Юрой, царапая ногтями холодную штукатурку стен, срывали большие, размером с театральную афишу, приказы оккупационных властей. На их место, согревая дыханием застывшие на морозе пальцы, клеили листовки - листки из ученических тетрадей с написанным от руки текстом собственного сочинения. Иногда переписывали сводки Совинформбюро - их с таинственным видом приносил нам Валерка. Он верховодил нами, строил из себя настоящего партизана, опытного подпольщика, но мы прощали ему это, потому что был он взрослее, рассудительнее и степеннее нас с Юркой и связи у него кое-какие все же имелись, раз сводки попадали ему в руки... В два-три дня раз, дождавшись комендантского часа, я прятал под телогрейку банку с клеем, проходными дворами пробирался к зданию бывшей библиотеки, где гитлеровцы устроили ремонтную мастерскую, и оттуда все трое мы шли на улицы, прилегающие к базарной площади...
В ту январскую ночь патруль появился неожиданно и совсем не с той стороны, откуда мы ждали, - из-за противоположного от Валерки угла. Мы с Юркой услышали их раньше. Характерное "я-а-а, я-а-а", звяканье подков о булыжную мостовую и оборвавшийся смех, когда они увидели нас. "Бежим!" крикнул Юрка, и мы кинулись в подворотню. Тишину вспорола автоматная очередь, за ней грянули винтовочные выстрелы. Пули с визгом рикошетили в темный колодец подворотни, гнали нас через незнакомый двор к забору, заставляя бежать и бежать без оглядки, петлять по развалинам, прятаться в развороченных тяжелыми авиационными бомбами подвалах. Нам удалось уйти. Валерке - нет.
Наутро у той самой школы, в которую мы вместе ходили до войны, стыл на лютом морозе труп худенького мальчишки со взъерошенными, слипшимися от крови рыжими вихрами. На его груди висела табличка, на которой корявыми, далеко отстоящими друг от друга буквами было написано одно слово: "Бандит"...
Память людей, переживших войну, - неспокойная память. Она оживает от малейшего толчка, загорается от малейшей искры, а если перед тобой пять томов жестокой правды тех лет - она дает о себе знать неизбывной болью старых ран...
Два дня я работал с многотомным делом. В нем содержались неопровержимые доказательства вины бывших фашистских прихвостней из зондеркоманды СД "Эйзатцкоманда-6". Обвиняемых было трое: Волонтир-старший служил немцам в звании ефрейтора, двое других - рядовыми карателями.
Немногие из оставшихся в живых жертвы и очевидцы злодеяний свидетельствовали перед трибуналом о палаческих "подвигах" этих выродков. Охрана заключенных, облавы, участие в массовых расстрелах советских граждан - вот сухой перечень их предательских деяний. Усилиями гитлеровцев и их пособников город превратился в огромный концентрационный лагерь, где по малейшему подозрению в связях с партизанами, в нелояльности или непослушании убивали и жгли, насиловали и истязали...
Георгий Васильевич в отличие от старшего брата прямого отношения к этим зверствам не имел. Оккупантам он не служил, видимо, по двум причинам: не подходил по возрасту и из-за хромоты. В свидетели попал потому, что, живя в тот период под одной крышей с братом, многое видел, о многом мог рассказать трибуналу. Однако в протоколе судебного заседания его допрос умещался всего на полутора страницах, причем львиную долю занимали ответы на вопросы членов трибунала, прокурора и адвоката. Постороннему глазу такое соотношение не говорило ни о чем, но человеку, искушенному в судопроизводстве, позволяло сделать определенные выводы.
Была, например, в протоколе такая строчка: "Председательствующий оглашает лист дела 87, том 1". Открываю нужный том, читаю. Показания, данные свидетелем Волонтиром на предварительном следствии. Это значит, что в суде Георгий Васильевич был пойман на противоречиях, и возникла необходимость напомнить ему его собственные, более ранние высказывания. Читаю внимательнее, сравниваю. Противоречия действительно имеются. Сначала он говорил, что брат часто возвращался домой среди ночи и приносил имущество, награбленное у расстрелянных за городом людей. В суде от этих показаний Волонтир-младший отказался.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Свидетель, когда вы говорили правду тогда или сейчас?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Сейчас.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Ваш старший брат не приносил с собой ценности, золото, одежду расстрелянных у рва людей?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Нет, не приносил.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Почему же вы утверждали, что приносил, и даже называли конкретные вещи и предметы из награбленного?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Объяснить не могу. Прошло много лет.
Далее. Оглашается лист дела 201, том 3.
Открываю третий том, сравниваю. На следствии Георгий Васильевич утверждал, что их дом часто посещали немецкие офицеры, которых с его братом связывали какие-то темные дела: то ли покупали у него что-то, то ли продавали - он точно не знал.
Председательствующий спросил: "Вы подтверждаете факты посещения немецкими офицерами вашей квартиры в декабре сорок второго - январе сорок третьего года?"
Следует краткий ответ Волонтира: "Нет, к нам никто не приходил".
"Чем вызвано изменение в ваших показаниях?"
На этот вопрос председательствующего ответа не последовало.
Поведение Волонтира в трибунале мало чем отличалось от поведения Красильникова на следствии, а его "не помню", "прошло много лет" было сродни красильниковскому "забыл, потому что был пьян". Я не искал сходства, да и о каком, казалось бы, сходстве может идти речь, если один из них убийца, а другой - его жертва. Тем не менее что-то общее между ними все-таки было - в манере держать себя, в настойчивом, безоглядном желании уйти от ответа, в упорстве, с которым оба стремились выдать желаемое за действительное...
Я вспоминал наши самодельные листовки - исписанные лиловыми чернилами странички из ученических тетрадок, вспоминал нескладный Валеркин силуэт на углу улицы, его ярко-рыжую голову, неподвижно лежавшую на снегу у школы, вспоминал и думал, что дело, наверное, не в возрасте, не в обстоятельствах, не в том, идет ли война или наступило время мира: независимо от того, сколько тебе лет, шестьдесят или пятнадцать, жизнь заставляет делать выбор, заставляет отличать, что есть добро, а что зло, и это в конечном счете определяет, к а к жил и д л я ч е г о жил; дело в самом человеке, его совести, чувстве долга, в его жизненной позиции, а позиция эта вырабатывается не в момент принятия решения, а всей предшествующей жизнью...