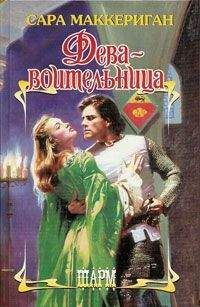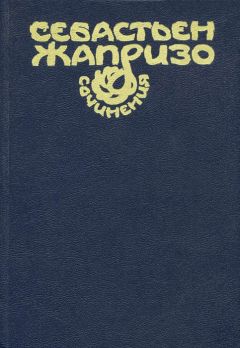Себастьян Жапризо - Купе смертников
В последнюю минуту, вдруг поняв, что поезд уже отходит, он наконец по-настоящему увидел ее, ее, Бэмби, как она стоит на платформе вокзала, которая стала уплывать назад, в своем голубом пальто, растрепанная, может быть, даже страшненькая, с пакетом конфет в одной руке и двумя тысячами франков в другой, которые она протягивает ему, и он не нашел ничего лучшего, как сказать:
— Черт побери, не бросай меня так.
— Это не я тебя бросаю.
Она побежала рядом с вагоном. Он взял деньги и стал лихорадочно махать ими, точно платком.
— А у тебя еще что-то осталось? Она чувствовала, что сходит с ума, буквально сходит с ума, бежала по платформе, ожидая, что он скажет ей еще что-нибудь, что угодно, но что-то такое, что она без конца смогла бы повторять про себя, и это помогло бы ей жить, а он не нашел ничего другого, кроме:
— Я тебе все верну! Под конец она крикнула, — поезд набирал скорость и она уже не поспевала за ним, а он высунулся из двери и при своей неловкости мог, чего доброго, и упасть, и вообще все это было ужасно несправедливо:
— Даниель!
— Я оставил записку дома! Там все правда! Он тоже кричал. Вот и все: две тысячефранковые купюры, издали все более напоминавшие платок, поток пассажиров, подталкивающих ее к выходу, и дождь вдруг прекратился. Она оказалась на привокзальной площади у выхода на перрон к поездам дальнего следования, с клубничной карамелькой во рту, вкусом поцелуя на губах и пустым спичечным коробком в руке, который она тут же бросила на мостовую.
В субботу вечером около шести часов к ней зашла Сандрина. Они немного подождали его, болтая о конторе, об Авиньоне, о Нанте. Сандрина тоже была блондинкой, но более худой, чем Бэмби. Она утверждала, что Бэмби такая же пухленькая, как Дани Робен. Она похожа на Дани Робен, но гораздо моложе. Сандрина находила Бэмби прехорошенькой.
В конце концов им надоело ждать, и они оставили ему на двери записку. И отправились вместе к Сандрине.
Комната у нее была побольше. Но прихожая такая же, зато имелась настоящая кухонька. Сандрина заранее накрыла стол, поставила три прибора, думая, что Даниель тоже придет. Она приготовила картофельный салат с сыром и ростбиф с зеленым горошком.
— Он это любит?
— Понятия не имею. Это очень дальний родственник. Я знаю его не лучше, чем вы.
Даниель появился около десяти часов, когда они закончили ужинать. Вид у него был совершенно отсутствующий. Войдя в комнату, он поцеловал их обеих в щеку, как это делают хорошо воспитанные дети, когда приходят в гости.
Он почти ничего не ел, не произнес ни слова. Когда они вышли от Сандрины, он признался Бэмби, что съел бифштекс в ресторане неподалеку от Восточного вокзала.
— У тебя были деньги?
— Я взял у вас в сумочке тысячу франков, пока вы принимали душ.
До самой улицы Бак она не в силах была вымолвить ни слова. У подъезда дома он проговорил очень быстро, глядя себе под ноги, что не следует на него сердиться, он не знает, как поступить. Он повторял: все это ужасно.
— Что ужасно? Что надо написать папе и маме и попросить у них прощения? Ты слишком безответствен, вот и все.
Само это слово, когда она его произнесла, понравилось ей. Она чувствовала себя старой, взрослой дамой, опекающей юнца. Она сама была удивлена тем, что стала такой взрослой и старой.
Было уже одиннадцать часов вечера. В доме царила тишина, только гудело неисправное отопление. Бэмби сняла с постели тюфяк, достала две простыни, сложила их вдвое, постелила одну на тюфяк, другую на постель. Она не смотрела на него. И он не смотрел на нее. А поскольку он был единственным ребенком в семье и был целомудреннее маленького семинариста, то переодеваться пошел за душевую занавеску.
Он вернулся в полосатой пижаме, на верхнем кармане которой были вышиты буквы «Д. К.» (Даниель Краверо), остановился перед ней, опустив руки, глядя на Бэмби покорным и недоверчивым взглядом. Она же стояла босиком в белой комбинации и вдруг заметила, что без каблуков она меньше его ростом.
Он растянулся на тюфяке на другом конце комнаты, положил руку под голову и глубоко вздохнул. Она погасила свет, чтобы надеть ночную рубашку. Ей было не по себе, но скорее от раздражения, чем от чувства неловкости.
В темноте, когда она уже улеглась, он сказал, что ужасно не то, что произошло с ним, а то, что произошло в поезде. Если бы она не сердилась на него за ту тысячу франков, которую он в любом случае ей вернет, он бы показал ей газету.
Она снова зажгла свет и прочла, что там напечатано.
— Они вас найдут.
— Каким образом? Ведь людей с моей фамилией, Бомба, великое множество.
— Все гораздо хуже, чем вы думаете.
Он сказал, что когда расстался с ней после обеда, то думал, что полицейский еще в купе арестовал убийцу, а теперь он видит, что все это не так.
— Так кто же этот убийца?
— Тот больной. Мне так показалось, когда я стал обо всем этом думать. Я просто был в этом уверен — может, оттого, что выпил вина. Как и в том, что уже после, не знаю откуда и почему, появился полицейский и арестовал того прямо в купе. А теперь я уже ничего не понимаю.
— Какая-то глупость.
Но чем глупее все это выглядело, тем больше было оснований полагать, раз тут замешан этот дуралей, что все это правда.
Мы проговорили добрый час, вспоминала Бэмби, поднимаясь вверх по улице Бак, он рассказал, что съел бифштекс, ожидая этого Кабура, поскольку еще утром стащил у меня тысячу франков, он вспомнил про фирму «Прожин» и решил позвонить туда и проследить за Кабуром, у которого состоялся неприятный разговор с этой брюнеткой. Даниель был и находчив, и бестолков. Он заснул на полуслове. На своем тюфяке, на полу. На следующее утро мы вместе застелили постель. Все это было вчера, в воскресенье.
— Куда вы собираетесь пойти сегодня? Он с готовностью помог ей убрать постель. Она надела облегающее черное платье, черный цвет ей очень к лицу.
— Никуда. Приберусь в комнате и постираю твое белье. А ты напишешь своим родителям.
Она уже представляла себе, как они вдвоем проведут этот день, спокойно, позабыв об этой истории в поезде, о которой они никогда больше ничего не услышат, он напишет письмо, она подошьет занавески, купленные накануне, а затем они трогательно попрощаются, и он будет присылать ей на Новый год поздравительные открытки, и так до тех самых пор, пока это приключение не отойдет окончательно в прошлое, будет позабыто.
Все произошло совершенно иначе. Она не стала подшивать занавески, а он не стал писать родителям. Следуя своему плану, этот маленький детектив в мятом твидовом костюме потащил ее за собой, и они целый день проездили на такси от набережной Орфевр до Трокадеро, из Клиши на ипподром в Венсеннском лесу.
Все-таки она успела постирать ему утром белье, и когда они вечером вернулись домой и оно висело, уже высохшее, на веревке, протянутой через комнату, — две рубашки вниз рукавами и майка рядом с ее трусиками, — сердце у нее больно сжалось: я не смогу больше жить в этой комнате.
Около полудня во время слежки за брюнетом (их было двое, брюнет и белокурый инспектор, и на вид Даниель казался ненамного, моложе их) они оказались на лестнице в доме на улице Дюперре, тесно прижавшись друг к другу, боясь пошевелиться, даже глубоко вздохнуть, чтобы не выдать своего присутствия. Губы Даниеля были так близко, что в конце концов она ни о чем другом больше и думать не могла. В своей жизни она целовалась только с двумя мальчишками, с кузеном, когда ей было тринадцать лет, из любопытства, чтобы узнать, как это делается, и с товарищем по лицею во время танцев на вечеринке у подруги, потому что была немного пьяна, а он — очень настойчив. Мысли же Даннеля, который стоял, прижавшись к ней, так что его рука лежала у нее за спиной, были заняты совсем другим… И вот тогда он порвал ей вторую пару чулок.
Вечером, после всех этих поездок по Парижу, которым не видно было конца, они поужинали, сидя рядом, в каком-то шумном ресторане на набережной. Бэмби говорила об Авиньоне. Она не желала больше слышать об этой истории. И когда они шли домой, она взяла Даниеля за руку и не выпускала ее, пока они не добрались до улицы Бак.
— Мне очень жаль, что я порвал вам чулки, — сказал он, когда они поднялись наверх.
Он не стал отворачиваться, когда она стягивала их. Она сама не могла понять, что испытывает: усталость или неясное желание вновь ощутить его губы возле своего лица. Они довольно долго молча смотрели друг на друга: она — стоя босиком в своем черном платье, с чулками в руках, он — так и не сняв плаща. Наконец она сказала какую-то глупость, о чем тут же пожалела, что-то вроде: почему ты так на меня смотришь?
Он не ответил. Спросил, сможет ли он тем не менее у нее остаться. Она хотела сказать: а почему «тем не менее»? Но не смогла.
Он долго молча сидел перед ней в плаще на кровати, потом она как бы вступила в сделку сама с собой, сказала себе: если я завтра окажусь в тюрьме, если завтра он окажется в тюрьме, у мамы будет еще больше причин упасть в обморок. Сейчас я его поцелую, и будь что будет.