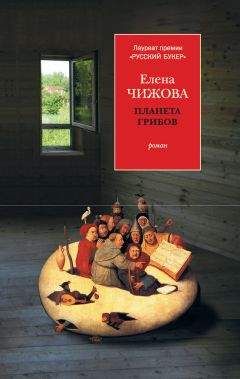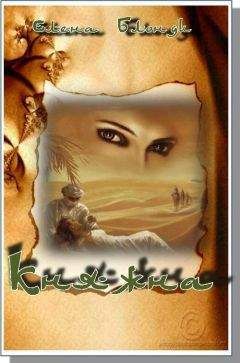Елена Арсеньева - Дневник ведьмы
– Кто-то ходил по нашей террасе!
– Кто? – недоверчиво уставилась на нее Алёна.
Не знаю. Я никого не видела. Но слышала шаги. И подумала: наверное, кто-то из соседей пришел. Мало ли, может, что-то срочное. Правда, удивилась, что не позвонили сначала, прежде чем войти. Здесь так не принято, тем более среди ночи. Я ждала, вот-вот постучат в дверь, но тот человек просто ходил по террасе. Тогда я включила там фонарь… ну, ты знаешь, он из комнаты включается… и посмотрела в щелку между ставнями. Открыть дверь было страшно.
– Еще бы… – пробормотала Алёна. – Надо быть дурой, чтобы открыть! Я бы даже и в щелку не решилась посмотреть.
– Ну, а я посмотрела.
– И что? Кто там был?
– Никого не было. Человек уже ушел с террасы. Я слышала, как скрипит гравий на асфальте под чьими-то удаляющимися шагами.
Алёна вдруг отчетливо представила себе вечерний, вернее, ночной Мулян. Такая благостная тишина, и тепло (здесь вечерами еще по-летнему тепло, не то что по утрам). Изо всех садов доносятся, соперничая друг с другом, ароматы табачков и роз, и ночная красавица раскрылась и тонко-тонко пахнет, и георгины пахнут землей, и космея, обожаемая Алёной за то, что напоминает ей детство, вдруг будто усмехнется неслышно, наполнив воздух своим горьковатым, влажным дыханием, и облака запоздало цветущего плюща словно бы реют над всем дивным, благоуханным букетом. Небо черное, звезды теплые, не русские, другие, как бы менее колючие, не льдистые, а будто слезящиеся… Кто-то из французов когда-то сказал, что звезды – это слезы Богородицы. А может, и не француз сказал, и не когда-то, а прямо сейчас так придумала писательница Алёна Дмитриева.
Короче, он походил, походил по нашей террасе, позаглядывал в щелки, а когда я свет включила, быстренько смылся! – вернул ее к реальности голос Марины.
– Ну, теперь уже успокойся. Он ведь ушел? – сказала Алёна, поглаживая подругу по плечу. – Ты начиталась своей адвокатской литературы, вот твои мысли и приняли криминальное направление. Может, у тебя вообще глюки. Знаешь, я когда в свои детективы погружаюсь, мне в самых невинных вещах видятся убийства, причем самые что ни на есть тайные и изощренные…
– Глюки? – возмутилась Марина. – А то, что он сейчас ходит по нашему двору около кухонной двери, тоже глюки?
У кухни мулянского дома была дверь, которая вела во внутренний дворик. От улицы этот дворик отгораживал прочный каменный – понятное дело! – забор, но дворик смыкался со старым запущенным садом, где в огромном количестве росли мелкая, желтая, невыносимо сладкая слива, называвшаяся мирабель, чахлые ореховые деревца, боярышник, какие-то кустарники, трава поднималась выше пояса… и все было, само собой, заплетено плющом. А сад, в свою очередь, примыкал одной стороной к старой церкви, другой же – к необитаемому дому, с которым у Алёны было связано не то жуткое, не то романтическое воспоминание[23]. От церкви и старого дома сад отделял только низкий, тоже оплетенный плющом и им же полуразрушенный заборчик, так что любой и каждый сумел бы при желании тот заборчик легко одолеть, и если он не боялся невзначай наступить на ужа, который вполне мог затаиться в щелях каменной кладки или в траве, то пересек бы старый сад, перелез через еще один забор – и оказался рядом с кухонной дверью. Практически в доме!
– Я услышала, как он шляется около двери, но у меня сил не хватило войти в кухню и включить наружное освещение. Наоборот, я быстренько погасила свет внизу и помчалась сюда. Ты понимаешь, он сейчас внизу, смотрит на наше окно…
Алёна одним прыжком оказалась около выключателя и погасила свет в ванной, другим – около окна и закрыла его на задвижку.
Окно выходило на черепичную крышу флигеля, в котором помещалась кухня. Трудно представить себе, что кто-то смог взобраться на высоту второго этажа и сейчас ползти по крыше, подбираясь к ним… Это должен быть какой-то spiderman (или спидермон, как изысканно произносят английское слово французы), человек-паук, словом, а таковых в Муляне и окрестностях вроде бы не водилось…
И если даже он, спидермон тот несчастный, по-прежнему бродит внизу, ему ни за что не открыть кухонную дверь, запертую на два ключа и заложенную засовом: правила техники безопасности одинокой деревенской жизни были накрепко «вколочены» Морисом в голову своей послушной и вполне выдрессированной в смысле дисциплины русской жены. Если же ночной «гость» начнет ломиться, вполне можно успеть позвонить всем соседям и даже в полицейский участок в Тоннере. Лучше, правда, пожарным, они всегда успевают приехать быстрей прочих. Во Франции даже при экстремальных родах вызывают не «Скорую помощь», а les sapeurs-pompiers, пожарных, потому что они по любому вызову мчатся воистину как на пожар, философы же медики долго запрягают и медленно едут, а уж полицейские из Тоннера вообще невесть сколько будут тащиться несчастные семнадцать кэмэ. Хотя можно никуда не звонить, а просто высунуться обеим в окна, выходящие на улицу, и крик поднять… Нет, лучше не поднимать, а то девчонки проснутся и сами поднимут такой крик, что их до утра не уймешь.
Так Алёна с Мариной сидели в темном туалете и тряслись, и мало-помалу от темноты и напряжения подруг начало клонить в сон, а за окном царила полная, непроницаемая, ночная тишина. И вдруг словно из пистолета выстрелили трижды: пробили часы на старой башне.
– Три часа ночи! – ужаснулась Алёна. – Жуть! Хватит тут сидеть, пошли спать. Нет там никого, давай думать, что тебе померещилось.
– Давай, – охотно согласилась Марина, которая уже успела обучиться у своей старшей подруги ее непревзойденному умению прятать голову в песок или под крыло, смотря по обстоятельствам. – Давно пора спать. Но все-таки ты завтра утром не уходи бегать, а? Пожалуйста! – жалобно добавила она.
– Что я, ненормальная, через четыре часа вставать? – буркнула Алёна. – Ну уж нет, я посплю!
И они, чмокнувшись, разошлись по своим комнатам. Алёна потом сто лет не могла уснуть, а когда заснула, дергалась и просыпалась. Но все же неведомая сила, называемая условным рефлексом, подняла ее без четверти семь, и она потащилась в ванную, и послушала, как старые часы бьют девять раз, что означает семь, и выпила кофе, и вышла из дому, и только на террасе вспомнила, что обещала Марине никуда не уходить. Но не возвращаться же… Возвращаться – плохая примета!
И вот она бежала теперь в Самбур, трясясь от утреннего холодка, от недосыпа – и, честно говоря, от страха тоже.
Человек, который хотел убить ее, остановил машину на холме и смотрел в бинокль на дорогу.
Туман уже осел и превратился в седую росу на жнивье. Солнце всходило справа от бегущей женщины, а слева, точно напротив него, еще задержалась в небе бледная, огромная луна. Она казалась вырезанной из белой, чистой-пречистой, полупрозрачной ткани с прорезанными в ней причудливыми отверстиями, в которых сквозил фон – небесная голубизна. Постепенно ткань высветлялась, и скоро она должна была окончательно выгореть и слиться с небесами. Было очень красиво, и человек, который хотел убить Алёну, тянул время, переводя свой сильный бинокль, с помощью которого можно было даже различить сверканье капелек росы, с желтых стеблей сжатой пшеницы на призрак луны в небе. Он словно бы вдруг оказался на месте бегуньи и почувствовал: с той стороны, откуда светит солнце, ее голых ног и плеч касается ласковое, золотистое тепло, а оттуда, где в небе маячит бледная луна, исходит потусторонний, почти могильный холод.
Почти могильный холод… Человеку, который хотел убить Алёну, очень понравились эти слова.
«Пожалуй, пора», – наконец подумал он, отложил бинокль и открыл большую сумку, где лежало его снаряжение.
Из дневника Николь Жерарди, 1767 год, Париж
В доме вдруг поднялась суматоха. Я слышала из своей комнаты, что сиделки кого-то не пускали в дверь, потом раздался требовательный мужской голос и их несмелые оправдания, затем до меня донеслись отзвуки разговора посетителя-мужчины с доктором, и наконец все стихло.
Я решила спуститься вниз и посмотреть, что происходит.
Сиделки встретили меня в салоне, переполошенные, словно куры, только что спасшиеся от хоря.
– Кто там был? – спросила я. – Я слышала голоса.
Ах, мадемуазель… – заговорили они в один голос, потом посмотрели друг на дружку, сконфузились, и продолжила уже мамаша Мишю, самая толковая из сиделок:
– Ах, мадемуазель, явился какой-то аббат… такой требовательный аббат! Такой сердитый!
Мне бы догадаться сразу… Мне бы кинуться вон из дома, где-то отсидеться, спрятаться, пусть бы у той же мадам Ивонн… Другая на моем месте догадалась бы! Другая скрылась бы! Но на меня словно бы затмение рассудка нашло. Вот уж воистину: кого боги хотят погубить, того они лишают разума! А может быть, тут больше годится другая пословица: сколько веревочке ни виться, конец все равно придет.
– Аббат? – засмеялась я. – Неужели дела моего отца настолько плохи, что ему уже понадобился исповедник? Вроде бы доктор говорил, что он чувствует себя гораздо лучше. Рано, рано начали слетаться вороны в клобуках! Если господь будет милосерд, мой отец еще поживет. Надо было так и сказать этому аббату!