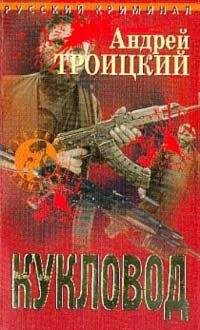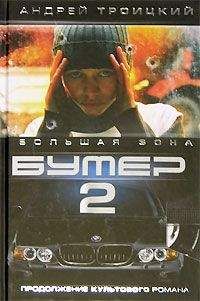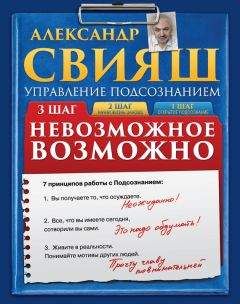Андрей Троицкий - Суд Линча
– Да, молодая, – говорил Леднев.
– А ведь могла бы ещё пожить, – пищала трубка.
– Могла, – соглашался Леднев.
Он не вдумывался ни в то, что ему говорят, ни в то, что он отвечает.
– А я ведь только сегодня все узнала, я просто потрясена, – сказала другая незнакомая женщина, забывшая от волнения представиться. – Вы даже не представляете, чем была для меня при жизни Елена.
– Не представляю, – машинально ответил Леднев.
– Она была для меня тем мерилом нравственности, душевной чистоты, по которому я сверяла свои внутренние часы, – сказала женщина.
– Какие ещё часы? – не понял Леднев, положил трубку и отключил телефон до вечера. Два или три раза кто-то звонил в дверь настойчиво, долго, но Леднев даже не пошевелился на своем диване. «Где они все были при её жизни со своими часами и нравственными мерилами?» – думал он, безуспешно пытаясь задремать хотя бы на час, хотя бы на полчаса. Но вместо сна, бодрящего, здорового сна приходили какие-то сумерки и в этих сумерках колебались такие же сумеречные не то люди, не то тени.
В полумраке вечера он поднялся, включил телефон и сколько мог, сжав зубы, выстоял под леденящей струей воды из душа, обтерся грубоватым жестким полотенцем, сунул в рот сигарету и почувствовал, что жизнь медленно возвращается к нему. Не выпуская изо рта зажженную сигарету он босыми ногами прошлепал в комнату, с ненавистью глянул на диван со скомканными на нем простынями, рухнул в кресло и вытянул во всю длину голые ноги.
Зазвонил телефон, и Леднев несколько секунд раздумывал, кто бы это мог быть. Оказалось, плотник из какой-то неизвестной Ледневу организации. Плотник долго сопел, что-то высмаркивал из носа, наконец спросил, можно ли зайти завтра, чтобы разобрать скамьи, сколоченные к поминкам. Ледневу не хотелось видеть плотника, но и смотреть на скамьи из необструганных досок, поверху обтянутых толстой почтовой бумагой, занимавшие полкомнаты, тоже не хотелось.
– Валяй, заходи, когда хочешь, – сказал Леднев.
Плотник снова с особым чувством закашлялся и засморкался, давая понять, что следующий его вопрос свойства деликатного.
– Вы… вам, простите, материал-то, доски без надобности? – наконец, выговорил он придушенным голосом. – Если без надобности, разрешите их мне того, забрать. А то оказии у нас разные бывают, а досок сухих не найти.
– Забери, пусть у тебя лежат. Когда со мной такая оказия случится, они, глядишь, и пригодятся, – Леднев положил трубку и отодвинул телефон подальше от себя, словно это могло спасти его от следующего звонка.
Он взял новую сигарету и прикурил от настольной зажигалки.
«Сейчас какая-нибудь баба явится, – думал Леднев. – Станет просить оберточную бумагу со скамеек. Дескать, бандерольку сыну собрала, а завернуть не во что». Из состояния прострации Леднева вывел звонок в дверь. Сев на диван, он потряс головой. Раздался новый продолжительный звонок, за ним ещё один. Забыв надеть шлепанцы, Леднев поплелся к двери. «Интересно, долго меня ещё будут донимать?» – думал он, подходя к двери.
* * *Дернув ручку на себя, он чуть не застонал от досады. На пороге, помахивая кулаком с зажатым в нем горлышком коньячной бутылки, одетый в облегающее ярко-голубое трико, стоял сосед, ветеринар Голубцов. Лицо его казалось скорбным, будто у Голубцова вдруг заныли все оставшиеся зубы. Леднев молчал.
– Зашел вот, – сказал Голубцов, развел руки в стороны и едва не разбил о стену бутылку коньяка. – В такие минуты человеку нельзя оставаться одному.
– Точно, нельзя, – согласился Леднев, немного прикрыл дверь, а оставшийся проем плотно загородил своим телом, лишив Голубцова малейшей возможности юркнуть в квартиру. – Спасибо, ты чуткий человек. Это в наше время редкость. Чуткость, участие человеческое редкость в наше время, – разжевал простенькую мысль Леднев.
– А я кровь сегодня на станции сдавал, – сказал Голубцов прокисшим голосом. Он уже понял, что в гости его вряд ли пригласят. – Пол-литра отлили только так. Теперь ведь почти никаких льгот донорам. Тарелку баланды нальют – и топай. Ну, отгулы еще. И ещё копейки какие-то дали, – он задумался, стараясь точно и емко выразить сумму материального вознаграждения за сданную кровь и нашел искомые слова. – Копейки унизительные, – Голубцов поморщился.
– То-то я смотрю, ты такой бледный, – сказал Леднев, – как полотно.
– Здоровья и так ни хрена нет, а тут ещё кровь сдавай, – вздохнул Голубцов. – Скоро и меня в ящике понесете. На погост.
– Так что же ты кровь последнюю сдаешь? – Леднев, демонстрируя человеческое участие, склонил голову набок и почмокал губами. Одновременно он как бы между прочим прикрыл дверь в квартиру ещё плотнее.
– Как тут не сдашь? – с горечью спросил Голубцов, не пропустивший манипуляцию Леднева с дверью. – Как же её не сдашь-то? На садовом участке работы по уши, дни к отпуску лишние нужны. Да ещё в Сочи собрался на недельку, стариной тряхнуть. Так что, дни лишние мне нужны. И ещё из этих… гуманистических побуждений. Помоги ближнему и все такое, – последние слова прозвучали совсем жалобно.
Голубцов потеряют последнюю надежду посидеть за бутылочкой с соседом.
– Ладно, спасибо, что зашел.
Леднев почувствовал, что этот короткий разговор отнял у него много сил. Он посмотрел на Голубцова и подумал, что тот действительно выглядит неважно. На бледном лице донора ярко горели выразительные глаза.
– Может, восстановим силы? – Голубцов кивнул на бутылку. – Силы-то они свои, не колхозные.
– Не могу, – покачал головой Леднев.
Заперев дверь на все замки, Леднев побрел к дивану. Он подумал, что за последние дни он постарел лет на десять. Раздумывая об этом, он посмотрел в настенное зеркало. Землистое лицо, заросшее щетиной, пегой и клочковатой, удивило его своей животной дикостью, каким-то совершенно нечеловеческим выражением глубоко запавших глаз. Он решил, что нужно сейчас же, немедленно привести себя в божеский вид. Драма подошла к концу, её персонажи должны уйти за кулисы и смыть грим.
Но вместо того, чтобы отправиться в ванну и привести себя в порядок, Леднев шире распахнул балконную дверь и рухнул на диван, неудобно подвернув под себя руки. Он задал себе вопрос, почему на похоронах Лены не присутствовал почти никто из её родственников. Ну, отца, матери, их в живых нет уж лет десять как. Но остались же две двоюродных сестры, обе моложе Лены, москвички, замужем и та и другая.
* * *Накануне похорон Леднев дозвонился одной из них – Наташе, у другой сестры Галины никто днями не брал трубку. Он объяснил в какое время и в какое место подадут катафалк, автобусы для тех, кто желает проводить Лену на кладбище. Он так и сказал «на кладбище», хотя на языке назойливо вертелось «проводить в последний путь».
Но Леднев, чуткий к слову, старался по возможности избегать высокого штиля в разговорной речи. Наташа разговаривала с ним так, будто Леднев её чем-то обидел, оказался виноват перед ней, и вот теперь, во время разговора своей вины признать не хочет, а только валяет дурака и уходит от важного разговора. «А что, Иван Сергеевич, разве гражданской панихиды не будет?» – спросила Наташа каким-то напряженным, не своим голосом, будто от положительного ответа Леднева зависело чуть ли не все её будущее. «Боюсь, Наташа, вы не совсем понимаете ситуацию. Останки Лены пролежали в морге больше месяца. То, что от неё осталось, это… В общем, панихиды не будет. Да и сам я против гражданской панихиды. Не нужно этого».
«Почему? – голос Наташи сделался тонким. – Лену знала и любила вся театральная Москва, все знаменитости. Люди пришли бы попрощаться, с последним поклоном к ней бы пришли. Да собрались бы толпы народа, лишь бы последний раз взглянуть на мою сестру. А вы, именно вы всем помешали, последний раз уже после её смерти становитесь всем поперек дороги. Вы портили ей жизнь и вот теперь смерть сумели испортить».
Леднев слушал эту околесицу почти бесстрастно, не перебивая. Он только начинал злиться, хотел возразить. Даже если бы гражданская панихида состоялась, никаких толп фанатичных поклонников там и в помине не оказалось. Леднев ещё хотел сказать, что у так называемой театральной Москвы слишком короткая память. Имя Лены для этой театральной Москвы почти что пустой звук, пшик… Возможно, столь раннее забвение имени сестры больно ранит самолюбие Наташи.
Он, Леднев, все это прекрасно понимает, но факт остается фактом: никаких там знаменитостей, никаких репортеров, толпящихся у запаянного цинкового гроба, ничего такого не предвидится. Но Леднев смолчал, продолжая выслушивать длинный и по существу оскорбительный монолог Наташи, ожидая, когда она наконец выпустит пар. «Даже похоронить по-людски не хотите, – почти прокричала она. – Такую актрису».
«Наташе хочется, как лучше, – подумал он. – Всем хочется, как лучше. И что из этого получается? Разве мне не хотелось изменить жизнь Лены к лучшему, когда мы познакомились, когда поженились? И что из этого вышло? Всем хочется как лучше, да. Но откуда у этой Наташи такая озлобленность против меня? Почему она винит меня в Лениных неудачах? Почему в собственных неудачах люди всегда винят посторонних, только не себя самих? Черт знает почему». Он откашлялся и ещё раз спросил Наташу, собирается ли она на похороны сестры. Наташа грохнула трубку с такой силой, что, казалось, разбила её в мелкие осколки.