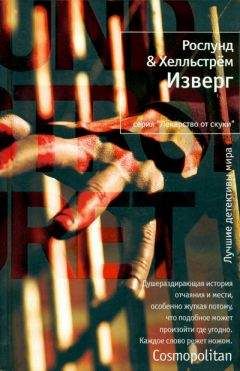Андерс Рослунд - Возмездие Эдварда Финнигана
Она знала, что такое агрессивность. Она выросла в ее атмосфере.
Но вот такого она не понимала.
Ее мать была шведкой, а отец цветным, первые годы жизни она провела среди людей сотни разных национальностей в той части Сконе, которая называется Русенгорд — особый район города Мальме. Там политики словно бы и не властны, там живут сплошь иммигранты, многие их недолюбливают, а некоторые сторонятся, но у них есть своя собственная сила, своя собственная жизнь и чертовски много агрессии, которая то и дело вырывается наружу, вспыхивая, как огонь.
Но не более того. Агрессия. Вспыхнет и так же быстро погаснет.
А вот эта тяжелая злоба Эверта, она словно навалилась на него, облепила и причиняла боль, с ней-то и не знаешь, как что делать, она безобразна и только делу помеха. Надо с ним поговорить — потом, когда будет время, разузнать, откуда она взялась, замечает ли он сам, что с ним происходит, может ли он сдержаться.
Прежде чем получить постоянное место, Хермансон проработала в Стокгольме шесть месяцев. Не так уж и долго, но здесь, в коридоре Крунубергской тюрьмы, она бывала уже не раз. Рядом с ней шел Свен Сундквист, он молчал с тех пор, как они вышли из кабинета Эверта. Она понимала, что он привык к таким вспышкам, и, возможно, махнул на них рукой. Хотя и его, несмотря на десять лет работы бок о бок, это все-таки смущало, и он шел и думал об этом, но не хотел разговаривать, словно его здесь и не было.
Шварц сидел в камере в дальнем конце коридора. Или Фрай, как его, видимо, звали на самом деле. Но здесь, здесь он все еще был Джон Шварц. Хермансон посмотрела на табличку у двери: его имя и ниже — предписание: строгая изоляция.
Она перечитала еще раз, ткнула пальцем в надпись и попробовала вернуть Свена к действительности.
— Что скажешь об этом?
— Шварц?
— Строгая изоляция.
Сундквист пожал плечами:
— Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но я не удивлен.
Она не выдержала и сняла записку.
— А вот я — нет. Мне непонятно. Почему Огестам предписал Шварцу полную изоляцию? Шварц в своем нынешнем положении никак не может повлиять на следствие. Почему же он не имеет права встретиться со своей женой и сыном?
— Я слышу, что ты говоришь. И согласен с тобой. Но повторяю: я не удивлен.
Хермансон повесила записку назад, та смялась, и скотч отказывался приклеиваться снова.
— Я ведь в принципе пообещала ему. Во время допроса.
— Ладно, попробуй. Если это на пользу расследованию, думаю, Огестам может и дать поблажку. Дело-то только в этом. В стратегии расследования. И ни в чем другом. Огестам и сам никогда не верил, что полная изоляция играет хоть какую-то роль. Ему, как и нам, известно, что Шварц ничего особенного не выкинет, даже если бы захотел. Но, ужесточив ему режим, он рассчитывал заставить его заговорить. Они часто так поступают, прокуроры эти. Оказывают давление, чтобы сдвинуть с места допрос и ускорить признание. Никто никогда тебе в этом не сознается, но мне-то известно, что это так.
Хермансон остановилась у запертой двери. Она не знала, кем был на самом деле тот, кто сидел внутри. Его посадили за нанесение тяжких телесных повреждений, и он фактически все признал. И вот теперь ему запретили читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор, писать и получать письма, встречаться с кем-либо, кроме своего адвоката, тюремного священника, охранников и еще парочки полицейских вроде нее самой — тех, кто занимается расследованием. Она была убеждена, что это лишние строгости.
К ним подошел один из тюремных охранников. Он заглянул в глазок, остался доволен тем, что увидел, и открыл дверь.
Джон Шварц, он же Джон Мейер Фрай, был бледен.
Он сидел на полу и смотрел на них пустыми глазами.
— Джон.
Он не ответил.
— Мы бы хотели с вами немного поговорить, Джон.
Хермансон вошла в камеру и приблизилась к нему, положила руку ему на плечо.
— Мы подождем, пока вы наденете тапки и соберетесь.
Он продолжал сидеть, только пожал плечами:
— Зачем?
— У нас есть несколько новых вопросов, которые мы хотели бы вам задать.
— Сейчас?
— Сейчас.
Они вышли из камеры и оставили дверь открытой. Они ждали, он не спешил, но все же вышел. По пути в комнату для допросов, где уже сидели Гренс и Огестам, Джон еле ноги волочил.
Он остановился на пороге, огляделся, словно пересчитал их и решил, что четверо — это многовато.
— Заходите, пожалуйста, Джон. Он замер в нерешительности.
— Ну же, Джон. Входите и садитесь.
Эверт Гренс был раздражен и не пытался этого скрыть.
— Это неформальный допрос, поэтому мы не будем говорить об умышленном причинении вреда здоровью пассажиру финского парома.
Джон опустился на единственный свободный стул в этой комнате с голыми стенами. Остальные уселись напротив него: трое полицейских и прокурор, они следили за выражением его лица, его реакцией.
— Но ты жил под чужим именем. И мы хотели бы разобраться в этом. Подковаться, прежде чем двигаться дальше. Нам хотелось бы получить от тебя… скажем так, некоторые разъяснения. Хочешь, чтобы мы разговаривали в присутствии адвоката?
Одно-единственное зарешеченное окно на противоположной стене. Больше ничего.
— Нет.
— Адвокат не нужен?
Джон покачал головой:
— Сколько раз я должен повторять — нет?
— Ладно.
Гренс посмотрел на худого мужчину в одежде не по росту. Короткая пауза, затем он продолжил:
— Для начала совсем простой вопрос? Тебе известно, Джон, что ты умер?
В комнате было так же тихо, как до того, как они все туда вошли. Джон не двигаясь сидел на стуле. Эверт Гренс довольно ухмылялся. Огестам не сводил глаз с самодовольного комиссара уголовной полиции. Хермансон чувствовала, как недовольство все возрастает, заполняя каждый уголок вокруг них и Свена Сундквиста, который уставился в пол, чтобы не видеть, как человек, сидящий перед ним, провалится в иное время.
Передо мной стоит молодой врач.
Он говорит, что я мертв.
Он подтверждает мою смерть, говорит, что Джон Мейер Фрай умер…
…что я умер в девять часов тринадцать минут в исправительном учреждении Южного Огайо в Маркусвилле.
А я тут.
Гренс надеялся на его реакцию — какую угодно, но чтобы стало ясно: негодник смекнул, что влип не на шутку.
Ничего.
Даже бровью не повел.
— Я не умер. Вы сами видите, что я живой.
Гренс резко поднялся с места, отпихнул легкий стул, так что тот опрокинулся.
— Вчера вечером и ночью мы связались с Интерполом в Вашингтоне и с ФБР в Вашингтоне и Цинциннати. Их документы показывают — и вот это я хочу, чтобы ты выслушал, черт побери, внимательно, — что ты и Джон Мейер Фрай — одно и то же лицо.
Сидевший перед ними на стуле бледный худой мужчина вздрогнул, не сильно, но они это заметили.
Это имя, он давно его не слышал, никто не произносил его уже больше шести лет.
— Итак, Фрай, согласно тем же самым документам, умер в камере в Маркусвилле, приговоренный к смерти за capital murder — тяжкое убийство шестнадцатилетней девушки. Ты сперва ее трахал, а потом всадил в нее несколько пуль. Девушку нашли умирающей на полу в доме родителей.
Джон уже не просто дрожал, теперь его трясло, тело словно колотилось в судорогах, он прошептал:
— Я любил ее.
— Ты был таким идиотом, что сбежал, а сперма-то осталась у нее внутри.
— Мы занимались любовью. Ведь мы любили друг друга. Я бы никогда…
— Согласно данным ФБР, ты умер в камере всего за несколько месяцев до казни. Признаюсь, Фрай, я тебя даже немного уважаю.
Джон встал со стула, сел на пол, прислонившись спиной к стене, закрыл лицо руками.
— Твоего отца зовут Рубен Фрай, так?
Джон еще больше сжался, на полу было холодно, откуда-то тянуло сквозняком, но он мерз не от этого, он мерз так, как никогда в жизни.
— Несколько часов назад ФБР в Цинциннати начало его первый допрос. Конечно, он утверждает, что понятия не имеет, что ты здесь делаешь. Утверждает, что ты мертв. Что ты похоронен на кладбище в Отуэе, поселке в нескольких милях от Маркусвилла, на том же кладбище, где и твоя мать. Он сказал, что уверен в этом, потому что сам организовал и оплатил похороны. Он заявил, что не сомневается в этом, поскольку сам на них присутствовал и видел, как гроб опускали в могилу, и поскольку простился с тобой в присутствии двадцати человек.
Его голос.
Я не слышал его голос больше шести лет.
— Твой отец может сколько угодно утверждать, что ему угодно. Ты идентифицирован на сто процентов.
Я знаю, что он в этом участвовал. Но как, он не рассказывал, но я все еще помню его лицо на заднем сиденье автомобиля.
— Хочешь что-нибудь сказать по этому поводу? Он, такой законопослушный, такой уважительный с властями!