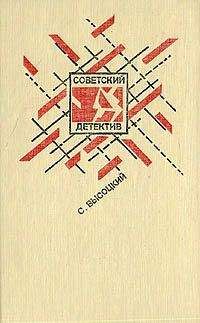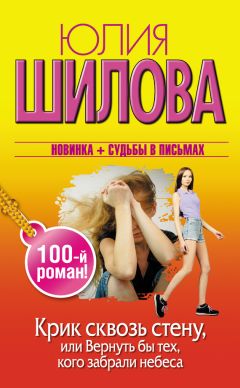Сергей Высоцкий - Выстрел в Орельей Гриве
«Здравствуйте, Тельман Николаевич. Пишет Вам отец Николай Ильич Зотов. Сколькие годы прошли, а мы не свиделись, не судьба. Я уже старик, скоро время мое придет. Хотел бы повидать Вас, просить прощения, коли виновен в чем. Живу я на кордоне Замостье за деревней Владычкино, от Мшинской двенадцать верст. Лесникую. Хоть и возраст мой вышел, а пенсии нет, не заработал. Но живу исправно. Грибы, ягоды. И места у нас — красивше не найти. Хотел бы только повидать тебя, сынок, слов нет, как хотел. Может, напишете старику?
Ваш отец Николай Зотов».
Игорь Васильевич спрятал письмо в карман и рассеянно посмотрел на книгу, в которой оно лежало. Это были письма Ван Гога. Корнилов прочитал на раскрытой странице подчеркнутые строки: «Движение вперед напоминает работу шахтера: она не идет так быстро, как ему хотелось бы и как того ожидают другие, но, когда принимаешься за подобную работу, нужно запастись терпением и добросовестностью».
Когда он приехал в Лужскую прокуратуру, чтобы рассказать о своих сомнениях следователю, то застал Каликова в растерянности: прокурор возвратил дело на доследование. Не заезжая в управление, Корнилов отправился в Зайцово, к «зайцовской Поле», которая, по рассказам Надежды Григорьевны Кашиной, знала про какую-то давнюю ссору лесника Зотова с сыном. Отыскать эту женщину было делом совсем нетрудным. В Зайцове жила всего одна Поля — Полина Степановна Аверьянова, и в правлении колхоза Игоря Васильевича отправили в школу: Аверьянова работала там нянечкой. Она оказалась высокой костистой женщиной с крупными чертами лица, с большими руками. В школе была перемена, и Аверьянова расхаживала по коридору, наполненному бегающими, кричащими, дерущимися ребятишками, то и дело кого-то останавливала, заправляла мальчишкам рубахи, выехавшие из штанов. Вот она заметила, как один из мальчишек хочет кинуть в урну бутерброд. Схватила за руку, приперла в уголке и, поставив рядом с собой большой колокольчик, заставила немедля съесть бутерброд.
Толстый паренек с трудом жевал, набив рот, и умоляюще смотрел на нянечку.
Корнилов стал в сторонке, облокотившись о подоконник большого окна, ждал, когда закончится перемена. «А у этой Поли добрый характер. Ребятишки ее любят», — подумал он, наблюдая за Аверьяновой.
Нянечка посмотрела на часы и пошла по коридору, названивая в колокольчик, больше похожий, правда, на коровье ботало. И звук у него был глухой. Ребята нехотя разошлись по классам. Полина Степановна, ворча что-то под нос, с трудом наклоняясь, начала собирать оставшиеся в коридоре после ребятни бумажки, огрызки яблок.
Корнилов подошел к ней:
— Полина Степановна, мне бы надо поговорить с вами…
Женщина медленно распрямилась, посмотрела на него внимательно.
— Я из милиции…
В ее глазах мелькнул испуг.
— Ай набедокурил кто?
Он поспешил успокоить женщину:
— Нет, нет, ваши питомцы в порядке. Я по другому делу. Где бы нам присесть?
— Идемте в учительскую. Там сейчас никого.
Они уселись за маленький письменный стол, на котором лежали груды тетрадок, и Корнилов спросил без всяких предисловий:
— Полина Степановна, что вы мне можете рассказать о Зотове?
— О Николае Зотове? — В голосе Аверьяновой он уловил заинтересованность.
— О нем, Полина Степановна.
— Ай бедолага! Опять небось что-то приключилось? Вот уж невезучая судьба у мужика.
— Невезучая?
Нянечка скорбно поджала губы:
— А как еще назвать-то? Женка рано умерла. Чахоточная, упокой господи рабу божию. — Она перекрестилась. — Приятели подвернулись пропивущие. А он и так от рождения малахольный какой-то. Убитый горем… Кто громче позовет, к тому и побежит. Покойница-то держала его в порядке, а тут — покатился. — Аверьянова тяжело вздохнула. — Признали и у него чахотку. А может, доктор только пристращал. Только перестал пить Николка. Перестал.
— Кем он работал? — спросил Корнилов.
— В молодости на стекольном заводе. На ванной белого стекла. Стеклодув. У них легкие-то у всех больные. А перед войной бухгалтером работал у нас в колхозе.
— А с сыном что у них приключилось? Почему рассорились?
Полина Степановна задумалась. Большая костистая рука ее машинально перебирала кисточки черной косынки, завязанной на груди узлом.
— С сыном-то? — повторила она, собираясь с мыслями. — Что-то такое случилось. Имя у него немцам не понравилось. А уж почему — и не помню. Хотели они мальчонку перекрестить. А ведь он упрямый рос — не приведи господи. Уперся — и ни тпру ни ну. Отец его и порол, сказывали… А сын стрекача дал — уж как Николку фрицы мордовали, как мордовали! Да вы к Тельманову дружку, к Алехе Маричеву зайдите. На чугунке путевым обходчиком работает. Там и живет. Тоже бузила был, не приведи господи. Его и нынче Алеха Буйная Головушка кличут. Они были дружки с Тельманом. А я не помню, как тогда все повернулось.
— Николай Ильич почему из деревни уехал?
— Нужда заставила. Не по своей воле. Связался с какой-то бабой. С города на сенокос ее прислали. Молодая. Пустил Коля денежки колхозные на гулянку. Мало ему своих зайцовских баб. Ведь какие бабы вдовыми остались! Ну а как отсидел — носа не кажет. Видать, совесть осталась. Нонесь я в поезде с ним встренулась. Поколотила его жисть, поколотила, — с сочувствием сказала нянечка. — Еле признала я Колю Зотова.
«Уж не имела ли ты сама, Полина Степановна, виды на Николая Ильича? — мелькнула мысль у Корнилова. — Больно жалеешь его. — Но тут же отогнал ее, взглянув на доброе лицо женщины. — Такая для любого хорошие слова найдет, любого пожалеет».
— Полина Степановна, а как вы думаете, если бы Зотов с сыном сейчас встретился да поссорились они снова, мог бы Николай Ильич, ну, к примеру, выстрелить в Тельмана?
— Ну что ты, хороший человек! Зотов, он на такое зло неспособный. — Она покачала головой: — Нет, неспособный он на это…
Он попросил Аверьянову рассказать, как найти Алексея Маричева. Полина Степановна вызвалась показать ему дорогу.
— До переменки еще успею, — сказала, взглянув на часы.
Корнилов чувствовал, что ей очень хочется узнать, отчего это он все выспрашивал про Зотова, но спросить, видать, стеснялась. «Судя по всему, в деревне еще не знают о его смерти», — подумал он.
19
Машину пришлось оставить в деревне: к домику путевого обходчика вела лишь узенькая тропинка — двоим не разминуться. Полина Степановна вывела Корнилова на деревенские задворки, к длинному, под черепичной крышей зданию скотного двора.
— По этой вот тропке пойдете, не заблудитесь. Как раз к чугунке приведет, к Лехиному домику. Это он и протоптал. В лавку часто бегает.
Поблагодарив Полину Степановну, Корнилов пошел по тропе, петлявшей среди стылых кустов по краю глубокого оврага. Потом кончились и кусты и овраг, и тропинка пошла по полю. Корнилов увидел маленький, желтого цвета домик путевого обходчика. Слева от тропы у большого стога стояла лошадь, запряженная в сани. Две женщины укладывали на воз сено.
Спокойный, тихий день, безмолвные поля, какая-то умиротворенность, словно пропитавшая морозный воздух, вдруг напомнили ему детство. Светлые и наивные мечты о будущем. Неужели эти мечты ни у кого так и не сбываются? На всю жизнь остаются лишь несбывшимися мечтами, придающими минутам воспоминаний легкий привкус горечи? Неужели никогда уже не ощутить вновь того, что было? Того, что когда-то уже пережил в детстве?
Вот этот снег… Корнилов смотрел на белые поля, на одиноко торчавшие среди снегов стожары и чувствовал, как холодок начинает проникать под одежду. Всюду холодный колючий снег. И только. А Корнилова временами беспокоило непонятное, тревожное чувство — нестерпимо хотелось вновь пережить одно, пожалуй, самое яркое, детское ощущение: только что выпал на теплую еще землю парной снег. Мать везет его на санках, и он, лежа на животе, смотрит на этот снег, такой свежий, такой белый, и земля, проступающая кое-где, кажется теплой и чистой. И пахнет чем-то свежий снег, и земля пахнет. А чем пахнет, Корнилову сейчас не вспомнить. И это самое мучительное. Кажется, что все такое же, как и в детстве: и земля, и снег, и погода. А сладостное чувство, тогда испытанное, вновь не приходит. Оно неуловимо, Корнилову часто снится этот сон из детства. Он просыпается с радостным ощущением — ну вот теперь-то, вот сейчас он поймет, почувствует и запах снега, и запах земли. Но это не возвращается.
«С годами мы не только приобретаем, — думал Корнилов, — но и утрачиваем многое. Приобретаем опыт, знания, характер. Утрачиваем что-то тоже очень важное, утрачиваем особое, не детское, нет, свежее восприятие мира. Между «было» и «есть» такая лежит граница, такая преграда, которую перейти невозможно. А наши воспоминания лишены плоти. В них солнце светит, но ты не можешь ощутить его тепла. Видишь заросшее кувшинками озеро, но не слышишь, как всплеснула рыба. Ветер воспоминаний не принесет с полей запахов свежескошенной травы…