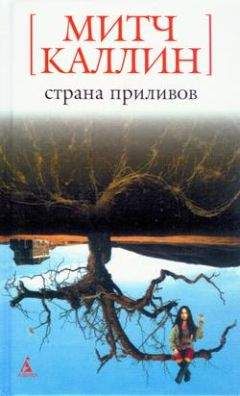Митч Каллин - Пчелы мистера Холмса
И там, в высокой траве, он тоже заслонился логикой, как щитом из прочной стали, чтобы закрыться от душераздирающего вида мертвого мальчика (нет нужды, что Холмс почувствовал легкое головокружение, что его руки задрожали, что его разум прихватила отупляющая тоска). То, что Роджер мертв, сейчас неважно, убедил он себя. Существенно то, как Роджер скончался. Но, даже не осматривая тело — даже не нагибаясь, не изучая воспаленное, распухшее лицо, — он понял, как наступила Роджерова смерть.
Мальчик, несомненно, умер от укусов. Их он получил чрезвычайно много, Холмс установил это с первого взгляда. Прежде чем Роджер отошел, его кожа покраснела, начались жгучая боль и повсеместный зуд. Возможно, он пытался спастись. Во всяком случае, он прибежал с пасеки на луг, вернее всего — уже не понимая, куда направляется, преследуемый роем. Ни на рубашке, ни на губах, ни на подбородке не было рвоты, хотя у мальчика наверняка были брюшные спазмы, тошнота. Давление у него упало, и возникло ощущение слабости. Горло и рот распухли, и он не мог ни сглотнуть, ни позвать на помощь. Затем начались перебои пульса, затруднение дыхания, наверное, предчаяние неотвратимой гибели (он был умный мальчик и должен был сознавать свою судьбу). Потом, словно провалившись в люк, он без чувств рухнул на траву и умер, что примечательно, с открытыми глазами.
— Анафилаксия, — пробормотал он, стирая пятна грязи со щек мальчика.
Тяжелая аллергическая реакция, подытожил он. Слишком много укусов. Крайнее проявление аллергии, сравнительно быстрая и трудная смерть. Он возвел отчаянный взгляд к небу, к плывущим в сгущавшихся сумерках облакам.
Что же это было за несчастье, спросил он себя, орудуя тростями, чтобы встать. Что сделал мальчик, что так разъярило пчел? Пасека выглядела безмятежной, как всегда; проходя через нее и выкликая имя Роджера, Холмс не заметил ни роя, ни суеты у летков, ничего необычного. К тому же сейчас вблизи Роджера не было ни единой пчелы. Несмотря на все это, пасекой следовало вплотную заняться; ульи требовалось надлежащим образом проинспектировать. Понадобится специальное облачение, перчатки, шляпа, иначе Холмса ждет та же участь, что и мальчика. Но прежде нужно оповестить должностных лиц, сообщить миссис Монро, забрать тело Роджера.
Солнце уже садилось на западе, и за полями и лесами неярко сиял далекий горизонт. Нетвердой походкой удаляясь от Роджера, Холмс прокладывал через луг свой собственный кривой путь в обход пасеки и шел травой до гравия садовой тропинки; там он остановился, глядя на спокойный пчельник и туда, где в траве, невидимый, лежал мальчик, оба эти места омывались золотым солнечным светом. Только тогда он заговорил про себя, тут же усовестившись легковесности своих тихих слов.
— Что ты говоришь? — спросил он вслух, ударяя тростями в гравий. — Что ты… — Мимо пролетела пчела, за ней другая, перебив его жужжанием.
Кровь отхлынула от его лица, и руки затряслись, ухватываясь за набалдашники тростей. Пытаясь обрести присутствие духа, он глубоко вдохнул и быстро повернулся к дому. Но идти он не мог, потому что все перед ним — клумбы сада, дом, сосны — было лишь отчасти вещественно. Мгновение он стоял, не двигаясь, в полнейшем замешательстве: как могло получиться, вопросил он, что я забрел в чужие места? Как я сюда попал?
— Нет, — сказал он, — нет, нет, ты ошибаешься…
Он закрыл глаза, набирая в грудь воздух. Ему нужно взять себя в руки, не просто опомниться, но прогнать это ощущение неузнавания, ибо и тропинка была придумана им самим, и сад — тут, в двух шагах, росли дикие нарциссы; еще ближе фиолетовые будлеи. Холмс не сомневался, что если откроет глаза, то увидит свои гигантские артишоки, увидит свои травяные клумбы. И подняв-таки веки, он увидел и нарциссы, и будлеи, и артишоки, и чуть подальше — сосны. Тогда он с беспощадной решительностью принудил ноги идти.
— Конечно, — пробурчал он, — конечно…
Вечером Холмс стоял у окна, глядя во тьму. Даже захоти он вдруг — он не смог бы думать о том, что было до того, как он попал в мансарду, о подробностях произнесенного и объясненного — о короткой перемолвке с миссис Монро, когда он вошел в дом, а она крикнула ему из кухни:
— Вы нашли его?
— Да.
— Он уже ушел оттуда?
— Боюсь, что да, ушел.
— Уж давно пора было.
Или о негромком разговоре по телефону с Андерсоном, когда он уведомил его о смерти Роджера, растолковал, где найти тело, и предостерег Андерсона и его людей от приближения к пасеке:
— С моими пчелами что-то не так, поэтому будьте осторожны. Заберите мальчика и сообщите обо всем его матери, а я схожу к ульям и завтра расскажу вам о том, что выяснил.
— Мы сейчас будем. Сожалею о вашей потере, сэр. Правда.
— Поспешите, Андерсон.
Или о том, как порицал себя за то, что избегал миссис Монро и не поговорил с нею сам, за то, что не умел донести до нее свое сострадание, разделить с нею свою боль, стоять с нею рядом, когда Андерсон и его люди заходили в дом. Пораженный, как громом, смертью Роджера и самой мыслью о том, чтобы сказать его матери правду, он поднялся в свой кабинет, закрыл и запер дверь, позабыл вернуться на пасеку, как собирался. Он сел за стол и стал делать запись за записью, едва улавливая смысл писавшихся второпях фраз, слыша, как ходят снаружи и как зарыдала внизу миссис Монро (гортанный вой, задыхающийся плач — глубокая скорбь, которая пронеслась сквозь стены и потолки, прокатилась по коридорам и пресеклась так же внезапно, как началась). Через несколько минут в дверь постучал Андерсон:
— Мистер Холмс… Шерлок…
Холмс нехотя впустил его, очень ненадолго. Но о чем они разговаривали — что Андерсон предлагал, с чем Холмс соглашался, — напрочь выпало у него из памяти.
И в наступившей после тишине, когда Андерсон со своими людьми уехали, посадив миссис Монро в свой автомобиль и положив тело мальчика в карету «скорой помощи», он подошел к окну, за которым видел одну лишь кромешную тьму. Но кое-что ему все же увиделось — пугающий образ, который он не сумел совсем прогнать из памяти: глаза Роджера на лугу, его широкие зрачки, вроде бы внимательно глядящие вверх, но на самом деле невыносимо пустые.
Опять сев за стол, он немного отдохнул, нагнувшись вперед и прижав большие пальцы к глазам. — Нет, — невнятно сказал он, качая головой. — Неужели? — сказал он вслед за этим громко и поднял голову. — Разве это возможно?
Он раскрыл глаза и посмотрел по сторонам, словно ожидая кого-то увидеть. Но, как всегда, он был один в своем кабинете, за своим столом, и рассеянно потянулся за ручкой.
Его взгляд упал на писания перед ним: стопы страниц, кучи бумажек — и неоконченная рукопись, схваченная резинкой. В последующие часы, до самого рассвета, он уже почти не думал о Роджере, и ему не приходило в голову, что мальчик садился в это самое кресло и вчитывался в историю миссис Келлер, дожидаясь завершения рассказа. И все-таки тем вечером что-то вдруг побудило Холмса дописать его — взять чистую бумагу, приняться измышлять на пустом месте некую развязку.
А потом слова будто бы пошли прежде мыслей, легко заполняя страницы. Слова сами толкали его руку вперед, одновременно унося его назад, назад, назад, — за сассекское лето, за недавнюю поездку в Японию, за обе Великие войны — в мир, который цвел, перетекая из конца одного века в начало другого. Он не прекращал писать до восхода солнца. Он не останавливался, пока не извел почти все чернила.
Глава 16
Как подтверждают опусы Джона, я нередко бывал не слишком щепетилен в расследовании и не всегда бескорыстен в своих поступках; в этой связи, дабы сказать правду о моих намерениях касательно фотографии миссис Келлер, нужно признаться, что никакой действительной нужды в ней не было. Дело было раскрыто еще до ухода из магазина Портмана тем вечером, в четверг, и я мог бы тогда же сказать все мистеру Келлеру, если бы лицо этой женщины не влекло меня по-прежнему так сильно. Я знал, что, отложив последний разговор, я смогу вновь увидеть ее, но в лучших обстоятельствах.
Фотография тоже была нужна мне по причинам личного свойства, и я хотел оставить ее у себя в счет платы. В тот вечер, когда я сидел в одиночестве у окна, эта женщина по-прежнему легко прогуливалась в моих мыслях — зонтик поднят высоко к солнцу, оберегая алебастровую белизну ее кожи, — а ее застенчивое лицо смотрело на меня с моего колена.
Но прошел не один день, прежде чем мне представился случай уделить ей все свое внимание. До этого мои силы употреблялись к делу великой важности, которое поручило мне французское правительство, — это было скверное дело, в котором фигурировало ониксовое пресс-папье, украденное в Париже со стола одного дипломата и припрятанное под половицей в театре Вест-Энда. Но и тогда эта женщина не выходила у меня из головы, ее явления становились все причудливее, они приводили меня в замешательство и в то же время волновали, будучи, однако, не чем иным, как порождением моей фантазии. Мне тем не менее достало проницательности понять, что эти навязчивые мысли о ней основывались на иллюзии и в силу этого, всего вероятнее, на них не стоило полагаться; и все же я не мог не признать, что, когда я бывал захвачен подобными глупыми вымыслами, во мне зарождались труднообъяснимые порывы, — потому что нежность, которую я испытывал, на этот раз лежала за пределами разумного.