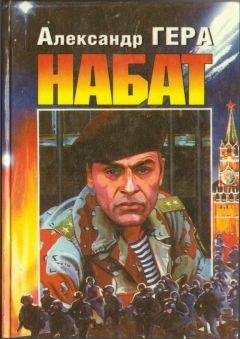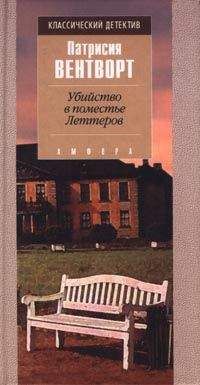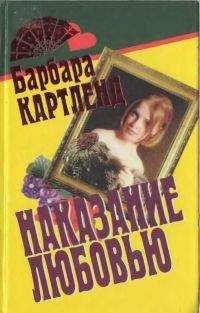Николай Псурцев - Голодные прираки
Когда уже запотели окна от нашего дыхания и когда через них не стало видно ни тротуара, ни здания УВД, ни прохожих, когда не стало видно туч, которые встали над городом, и небесного цвета неба, висевшего над тучами, которые встали над городом, и не стало видно даже обыкновенного воздуха, который всегда видно, если окна чисты и невинны, тогда, только тогда я повернул ключ в замке зажигания и завел двигатель. Двигатель работал хорошо, это я слышал. Своими ушами. Теми самыми, которые слышат иногда такое, чего не слышит (я так предполагаю) ни один даже самый-самый классный слухач в мире, а уж в нашей стране и подавно. Я мог положиться на свои уши – это так (не в смысле лечь на них и валяться, валяться, валяться… а верить им, доверять, знать, что они не подведут). И положась, могу твердо заявить себе и всем, кто находился бы рядом, что двигатель работал хорошо, хотя машина была и не вчерашнего дня выпуска, а скорее всего позавчерашнего, или позапозавчерашнего скорее всего – не новая машина, хотя и позапозавчерашняя. И я хотел сказать вслух о том, что услышал, что, мол, двигатель хороший, ну, во всяком случае неплохой, нормальный. Но не сказал» Так бывает. Хочешь чего-то сказать и не говоришь. И не знаешь, почему не говоришь. А потом все-таки говоришь. Но себе и про себя и про другое говоришь, что правильно сделал, говоришь, что не сказал то, что хотел. Раз засомневался, раз тормознулся на первой же букве того, что хотел сказать, значит, и не надо было говорить, то, что хотел сказать, не стоило, значит, этого говорить, значит, если бы ты это сказал, то жизнь твоя пошла бы, покатилась бы, поползла бы, наверное, по-другому, хуже, лучше, это не имеет значения, но не так как положено было бы, не так как предначертано (хотя все это, наверное, что я сейчас говорю, полная херня, потому что если бы жизнь после этих слов пошла бы по-другому, значит, именно так и было предначертано, ведь так, да, ведь так?) Одним словом, надо что-то решать, решил я. И я решил. И решив так, как решил, что, мол, все идет как надо и куда надо, и вместе с тем, конечно же, и не догадываясь ни чуточки, ни вот чуточки, как на самом деле надо и куда надо, я включил первую передачу и отжал сцепление, после чего не менее осторожно нажал на педаль акселератора и машина тронулась, тронулась! Не умом, конечно, а с места. От тротуара. В сторону мостовой, сбоку от которой она стояла. И потом вторую скорость я включил, и третью. И все нажимал на педали, и все вертел руль, вертел и нажимал, откинувшись назад спокойно и успокоенно, расслабившись, но будучи в напряжении, и смотрел вперед, и смотрел по сторонам, и смотрел на Нику Визинову, хотя еще несколько минут назад говорил, что не буду смотреть на нее, и не просто говорил, а именно так и думал, что не буду смотреть на нее. Но вот сейчас изредка смотрел, и мне было хорошо, и мне было тяжело. «Вы красиво ведете машину, – сказала Ника Визинова. – Очень приятно смотреть, как вы ведете машину. Очень редко так на кого приятно смотреть, когда кто-то ведет машину. Обычно машину ведут, будто делают работу, будто работают, когда ведут, будто только о том и думают, когда ведут машину что они ведут машину, и больше ни о чем не думают. Только о том, что ведут, и все. Даже лучшие из водителей, которых я видела, именно так и водят машину. А.вы ведете ее отстраненно и с удовольствием. И вам нравится, что вы ведете машину. И сама машина вам нравится, и то, что вокруг в машине, тоже нравится. Я вижу, я вижу, вижу, я вижу. И вы спокойны, и вы чуть ленивы, когда ведете машину. Я вижу, я вижу. Вы естественны. Да, вы естественны» «Я неестествен, – сказал я. – Вы ошибаетесь, Ника Визинова. Я очень собран, и я очень сжат. Не зажат, а именно сжат. И далеко не естествен, если придавать этому слову его первоначальное значение. Моя естественность неприродна. Она не врожденна. Она сделана. Она сконструирована. Мной, конечно, конечно же, мной. Я всегда смотрю за собой со стороны. Я слежу за каждым своим движением, когда веду машину, за каждым жестом, за каждым поворотом головы. И за своим взглядом в зеркало заднего обзора слежу тоже, стараюсь придать взгляду небрежность и ироничность, и одновременно равнодушие. Да, равнодушие. Мол, даже если и долбанет нас какой-нибудь полудурок, и мы вылетим с трассы на огромной скорости и ударимся там, за трассой, обо что-нибудь, например о дерево, то мне, мол, наплевать на это, наплевать, потому что будет то, что будет, если и будет наоборот. Хотя мне, конечно же, не наплевать, конечно же. Но я стараюсь убедить себя в том, что все равно наплевать, и, убеждая себя, я одновременно конструирую выражение своего лица, свои движения, жесты, манеры. Понимаете, Ника Визинова? Вы меня понимаете?» Я видел краем глаза, что она не слушала меня, а значит, и не понимала, что я говорю. А если и слушала, хотя она, конечно, не слушала, ну, если предположить, что все-таки слушала, то слышала она только звуки моего голоса, звуки, но никак не слова, не фразы, не предложения, только звуки, которые не собирались у нее в мозгу в какие-то более или менее значимые понятия. Так я думал. Так я предполагал, когда говорил и одновременно смотрел на нее. И оказалось, что так и оказалось, что мне казалось, а казалось бы, да? Она снова заговорила, и заговорила так, что и вправду стало понято, что она меня совсем не слышала, а если и слышала, то только звуки, звуууууууу-ууукиииииииии… Она говорила, Ника Визинова:
«И он тоже красиво водил машину. Я очень хорошо это помню, потому что я очень хорошо это видела, будто сидела с ним рядом, вот так, как сейчас сижу с вами. Хотя я не сидела с ним рядом. Я была совсем в другом месте, в своей квартире, в своей постели, рядом со своим мужем. Или без него, когда его не было. Когда с мужем, а когда и без него. Без него, это когда его не было, мужа. Он часто уезжает, часто, часто. Вот и сегодня его нет. Он часто уезжает. Но когда он не уезжает, и я лежу рядом с ним в постели, то тот, кто ко мне приходит, он все равно приходит, даже когда мой муж рядом. Я вижу, как он едет ко мне на своей машине, я вижу, как он красиво ведет эту машину, я вижу, как он волен и свободен, вижу, как он спокоен и умиротворен. Вижу, как его усмешливые глаза взирают вокруг с превосходством и снисходительностью. Он многое знает. Он о многом знает. Он не раздражается, когда зажигается красный свет, и не нервничает, когда зажигается желтый, и остается совершенно равнодушным, когда зажигается зеленый. Он едва касается педалей ногами и он едва касается руля руками. И кажется, что машина слушается его мыслей… Он подъезжает к моему дому. Он останавливает машину. Он выходит из машины. Он не запирает ее. Ему все равно, что будет с его машиной. Он идет к моему подъезду, приглаживая на ходу волосы, идет вольной и чуть ленивой походкой. Заходит в подъезд, с улыбкой ожидания нажимает кнопку лифта, едет на этом лифте, читая непристойные и вместе с тем возбуждающие надписи на его стенах. Приезжает на мой этаж, подходит к двери моей квартиры, ни секунды не колеблясь, нажимает на кнопку звонка, и ждет, улыбаясь, и звонит опять, и ждет, улыбаясь, и звонит опять, и видя, что ему никто не открывает дверь, и зная, что ему никто и не откроет дверь, он открывает ее сам. Открывает и заходит в мою квартиру. Идет по квартире, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. И заходит в спальню и садится рядом со мной на кровать. И не раздевается и не ложится, а просто сидит. И я открываю глаза и вижу его, и я знаю, что это не сон. И я вдыхаю его запах, и я дотрагиваюсь до него, и чувствую руками его тепло. И он дотрагивается до меня, и я чувствую тяжесть его рук. Он гладит меня, ласкает. Я позволяю ему все. Он делает все, что хочет. Но сам не раздевается и не ложится рядом. Он гладит меня и ласкает и что-то говорит, я не понимаю, что, но все, что он говорит, возбуждает меня и успокаивает меня. Он ласкает меня и говорит, говорит… И я хочу жить. Я так хочу жить. Только тогда я живу, когда он приходит. А потом я засыпаю и сплю крепко и долго и не хочу просыпаться, потому что я знаю, что, когда проснусь, его уже не будет. Он уходит, когда я сплю. Я пытаюсь не засыпать как можно дольше, когда он рядом. Но все равно засыпаю. И ничего не могу поделать с собой, как ни стараюсь, как ни пытаюсь, какие усилия ни прикладываю, какие силы на помощь ни призываю, засыпаю, засыпаю. Как жаль, что я так мало видела его, смотрела на него, дышала им. Как жаль, что я так много спала, когда он был рядом, как жаль… Потому что теперь он не приходит больше. С тех пор как кто-то напал на моего мальчика, на моего сына по имени Павлик, тот, кто приходил ко мне, больше не приходит. Не приходит! Я жду его каждую ночь, а его нет! Я хочу его каждую ночь, а его нет… Я смотрю на город, я заглядываю в каждый его уголок, в каждую ложбинку, в каждую канавку, в каждую щелку, я не говорю уже о том, что я заглядываю в каждую квартиру, на каждое рабочее место. Его нет. Нет нигде. Он не ушел к другой. Он просто исчез. И я не могу понять, почему он исчез. Ты не знаешь, почему он исчез? – Ника Визинова наклонилась вперед, повернулась ко мне и взяла пальцами мой подбородок и развернула к себе мое лицо и повторила свой вопрос: – Ты не знаешь, почему он исчез?» – «Знаю, – сказал я и потерся подбородком об ее пальцы. – Он полюбил твоего сына. Сначала пожалел, а потом полюбил. И полюбил больше, чем тебя. И ты ему теперь не нужна. Как бы он ни любил тебя до этого, ты ему сейчас не нужна. Потому что, какая бы сильная любовь ни была, по сравнению с новой любовью она – ничто… Она не помнится даже, будто ее и не было никогда» Ника Визинова убрала руку от моего подбородка, сжала пальцы в кулачок, поднесла кулачок к груди и провела кулачком по животу, провела кулачком по обнаженным коленям, спрятала кулачок под обнаженные колени, будто грела кулачок, будто вернулся кулачок из Антарктиды и очень поэтому замерз и его добрая знакомая Ника Визинова взялась согреть его. Она грела кулачок и неотрывно смотрела на меня, и в глазах ее толпились слезы – подталкивали друг дружку к выходу, давай, мол, давай, нам тесно, нам душно, «Мама, – сказал мальчик Паша хрипло. – Мама. Я боюсь. Пусть он уйдет…» – «Бойся, – сказал я мальчику Паше. – Бойся как можно чаще и как можно больше. Чем раньше твой страх достигнет своего апогея, тем раньше ты перестанешь бояться» – «Или наоборот», – тихо заметила Ника Визинова.