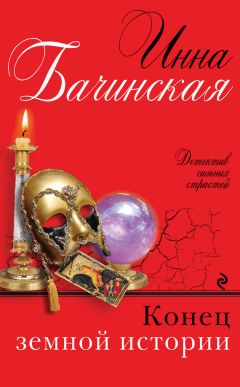Инна Бачинская - Мужчины любят грешниц
– И эта женщина, – говорю я. Фильм, письмо и, разумеется, женщина…
– Какая женщина? – Рената с опаской смотрит на меня – может, я тронулся умом! Как было в одной пьесе…
– Ольга! Родственница Алисы, она мне позвонила, предложила встретиться.
– Родственница Алисы? А раньше ты ее знал?
– Нет.
– А где она была все это время?
– Говорит, что жила за границей.
– Чего она хотела?
– Ничего не хотела. Сказала, что Алису убили.
– Убили?! – Рената широко распахивает глаза. – Кто?
– Она не знает, да и вообще… – Я запнулся: страшное, худое лицо Ольги возникло перед глазами, пугающе неподвижное… и руки в черных перчатках, и блеск колец. – Я думаю, она ненормальная.
– Фильм, эта женщина, письмо, – перечисляет Рената, загибая пальцы. – Но ты же говорил, что было следствие…
– Было. Сказали – самоубийство. Мотивы неизвестны. – Мне хочется добавить: «У меня алиби», – но я молчу.
Мы смотрим друг на друга – что дальше?
«Тимочка, дорогой мой! Я так много не успела тебе сказать! Но ты и сам все знаешь – я люблю тебя, родной мой, люблю, как никогда и никого… Я никого не виню, я понимаю…
Прости меня.
Будь счастлив, Тим, и до свидания! Твой Красный Лис…»
Я слышал голос Лиски, видел, как шевелятся ее губы, видел ее глаза. Мне казалось, она написала это сейчас – просила прощения за то, что ушла. Разумом я понимал, что это невозможно…
– Она говорит, что никого не винит… В чем?
Мы снова кружим по наезженной колее, мы снова идем по кругу.
– Не знаю.
– И просит прощения? За что?
– Не знаю. Может, в общем смысле, ни за что. Не знаю!
– За то, что собирается сделать, – говорит Рената, и мне кажется, что она сейчас добавит: «Помню, в одной пьесе…» – но она не произносит больше ни слова.
Самоубийство. А потом пришел некто и взял письмо… Так?
Я почти смирился с версией ее самоубийства, а письмо вызывает новые вопросы. «Я никого не виню, я понимаю… прости меня». Виню – в чем? Прости – за что? Что произошло семь лет назад?
Семь лет… Для меня ничего не закончилось, я чувствовал, что Лиска где-то рядом, я видел, как она мечется в закрытой комнате, в темноте, шарит руками по стенам, ищет выход и зовет меня…
«Будь счастлив, Тим, и до свидания! Твой Красный Лис…»
Она написала «до свидания», а не «прощай»! До свидания, а не прощай! Я ухватился за эти слова, как будто они что-то меняли. Мне чудился в них скрытый тайный смысл. До свидания…
Рената сочувственно посматривала на меня и обращалась как с хрустальной вазой. Она осторожно передавала мне чашку с кофе, изящно намазывала маслом бутерброд. Я не ем масла! От кофе меня бьет озноб. Я не могу и не хочу поддерживать пустопорожний разговор, я хочу остаться один. Сидеть на диване в темноте и думать. Вспоминать. Решать задачу, где сплошные иксы. Задача – это для меня, математика – моя стихия, я прекрасно считаю и делаю деньги, я – счетная машина, железный калькулятор, мне решить любую задачку с цифирью раз плюнуть! Дано: икс, игрек… Икс?
Рената наряжается в черное, убирает волосы в узел – это делает ее похожей на мексиканскую аристократку. Набрасывает пончо, отороченное мехом, тоже черное. Театр и жизнь слились для нее в единое целое, не разорвать: театр – это жизнь, и наоборот: жизнь – это театр. Что было неоднократно замечено классиками. Сейчас она играет роль роковой женщины, женщины-вамп, втянутой в мистическую и страшную историю. Это вам не Кэти-Лолита! Лицо – загадочное.
А я перебираю в памяти тот день, последний… Я будил Лиску, она отбрыкивалась, визжала, светило летнее солнце, я присел на краешек кровати. Лиска спрятала голову под подушку, простыни сбились, тонкие руки, узкие коленки, загорелый живот, ямка пупка, пушок… Я смотрел, подыхая от любви, восторга, счастья! Лиска, заподозрив неладное, высунула глаз из-под подушки – была у нее такая манера, высовывать глаз и подглядывать как краб. Потянулась, зевнула во весь рот, пнула меня коленом. Ах, так! Ну, держись, спящая красавица! Я целовал ее всю, она уворачивалась, подушки летели на пол. «А на работу?» – шептала Лиска мне в ухо, и я смеялся от щекотного эха глубоко внутри. К черту работу! Я, извиваясь, срывал галстук, рубашку, не отрываясь от ее губ, чувствуя ее вкус, она обнимала меня, и мир опрокидывался…
Я был молод, юн, глуп, как щенок, а сейчас я стар, я устал, да и двигаться стал с трудом, как пел один бард в одной из своих песен…
Лиска, Лиска, где ты сейчас? В чем смысл? Если от нас зависит так мало…
Я улыбался, и улыбка моя напоминала гримасу, а щекам было холодно от слез.
Глава 17
Вопросы, вопросы…
– У тебя интересный брат, – заметила Рената на другой день за завтраком.
– Интересный.
– Ты не рассказывал о нем!
– А что ты вообще обо мне знаешь?
Рената живет у меня, а Павлик у моей мамы. Ее это, похоже, ничуть не смущает, а меня наоборот – смущает и удивляет. Я не звал ее, но жить на два дома трудно, вечно нужно то одно, то другое – не набегаешься, и в один прекрасный день Рената перевезла ко мне вещи. Каждое утро я просыпаюсь и снова привыкаю к тому, что не один. Рената распевает как канарейка и готовит кофе, а вечером приходит после одиннадцати – и я жду ее с ужином. Мама, как мне кажется, вполне счастлива. Она даже перестала звонить по десять раз на дню и расспрашивать, как я. А когда звоню я, рассказывает мне о Павлике – какой он умный, воспитанный, красивый и вообще замечательный. Подтекст – и у тебя мог быть такой же!
– Я давно так не смеялась, – говорит Рената. – Ты совсем другой.
Казимир – весельчак, а я тяжелый нудный тип.
– Я серьезный! – Делаю вид, что обиделся.
– А его жена… Лена, кажется?
– Лена была первой красавицей курса, – поддразниваю я ее.
– Ничего, – снисходительно соглашается Рената. – Но пресна, пресна… Они очень разные.
– Противоположности сходятся, сама знаешь.
– Глупости! – возражает она. – Ей не хватает живости, она манерна, у таких, как она, подают к обеду льняные салфетки.
Я удивленно хмыкаю:
– Не знал, что это недостаток.
– Просто, когда нет ничего общего, обзаводятся льняными салфетками. В счастливых домах льняных салфеток нет.
Она бьет наповал своей логикой. Но мне кажется, я понимаю, что она хочет сказать: когда ничего от семейной жизни не остается, начинаешь занимать себя мелочами вроде салфеток, сервизов и кулинарных рецептов. У нас с Лиской не было льняных салфеток…
– И букет посреди стола, – говорю я.
– Именно! – Рената схватывает все на лету. – Вы близки?
– С Ленкой?! – изумляюсь я.
– С братом, дурачок!
Я задумываюсь. Пожимаю плечами.
– Что-то не поделили?
– Меня всегда жучили за его синяки, плохие отметки, проделки, я всегда был виноват, понимаешь?
– Но ведь сейчас он уже взрослый, – резонно замечает она.
– Иногда мне кажется, что нет.
– Ты злой!
– Ага! Ты меня еще не знаешь.
– А она тебе нравится?
– Кто?
– Лена!
– Я был в нее влюблен, – неожиданно признаюсь я.
– Ты?! И Казимир… увел ее? Отбил у тебя? – Она хохочет. – Бедняга! – Непонятно, кого она имеет в виду.
– Это старая история, я давно его простил.
– Я бы подохла с ней со скуки!
– Ничего ты не понимаешь! О такой женщине можно только мечтать. Хозяйственна, прекрасно ведет дом, букет на столе… опять-таки…
– Вышивает салфетки! Бр-р-р!
– Дались тебе эти салфетки.
– Давай пригласим их в гости!
– И ты приготовишь ужин?
– Еще чего! – фыркает она. – Закажем в ресторане. И никаких льняных салфеток!
– Давай… если хочешь.
…Двор моего старого дома пуст. День выдался серый и по-осеннему холодный. Я задираю голову, нахожу балкон. Есть свидетели – старуха и подростки. Сидели на лавочке напротив. Они видели, что случилось, они слышали крик, заметили время. Они не видели, как. Они не видели, когда она вернулась домой, – подъезд с обратной стороны. Возможно, там сидела другая старуха, которая видела. Или смотрела в окно. Она могла заметить, как Лиска пришла домой. Зачем домой, если я ждал ее в «Белой сове»? И кто пришел следом. Или с ней.
Дом – гигант, восемь подъездов, четырнадцать этажей, люди живут здесь годами, не имея ни малейшего представления о том, кто за стеной. Дом-город. Я уверен, что лишь немногие знали, что случилось. У всех свои проблемы – прелесть города заключается в том, что человек растворился в нем и спрятался. Превратился в анонима. Узкий мирок – семья, коллеги, несколько приятелей. Все. Десять замков на металлической двери. И только старухи на скамейке – доживающее племя, связующее звено между мирком и миром. Видят, слышат, обсуждают и выносят приговор.
Я нажимаю кнопку звонка. Щебет искусственной птицы бьет по нервам. Шаркающие шаги, движение в глазке, осторожный голос, не поймешь, женский ли, мужской, но несомненно старческий: