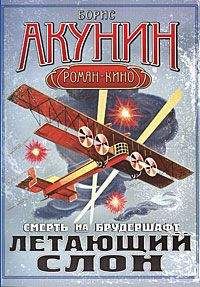Татьяна Устинова - Первое правило королевы
— Кто прет в начальство?
— Да этот хрен моржовый, что нас с тобой в кусты загнал! Его машина. Губернатором он будет! Вот кем он будет!.. — и всегда сдержанный и солидный Осип сделал неприличный жест.
Инна посмотрела в сторону.
Итак, Ястребов Александр Петрович. Пролетел мимо, спихнув Осипа вместе с Инной с дороги в сугроб.
Занятно.
Инна голову могла дать на отсечение, что пролетел Александр Петрович как раз на тот самый эфир, куда поспешала она сама.
Очень занятно.
У нее есть пять минут, чтобы приготовиться. Что ж это Юра не сказал ей, с кем именно она должна «дебатировать»! Впрочем, понятно. Столько этих дебатов было передебатировано, столько слов сказано, столько эфиров «отдержано», что и не счесть, а этот, сегодняшний, — самый что ни на есть рядовой, обыкновенный.
Ястребов спихнул ее с дороги, а она, пожалуй, приложит все усилия, чтобы выпихнуть его из эфира. Не то чтобы слава Владимира Вольфовича, сына юриста и никому не известной мамы, не давала покоя Инне Селиверстовой, и вряд ли она позволит себе драть Ястребова за волосы и швыряться стаканами, но есть множество других способов выставить мужчину дураком. Даже если этот мужчина бизнесмен, политик, некоторым образом олигарх, некоторым образом… любовник и всеми остальными образами — противник.
И тут Инна потянулась, как кошка Джина, которая уже придумала, как выцыганить у хозяйки рыбу, выспаться на ее шубе, поваляться на только что выстиранных полотенцах и при этом остаться тем, кем она хотела остаться, — бедной киской.
— Ты чего улыбаешься, Инна Васильевна?
Бдительный Осип, несмотря на весь свой гнев, за Инной все же послеживал.
— Да так, Осип Савельич. Все хорошо.
— Хорошо! Где хорошо-то?! Едва из кустов вылезли! Еще пять сантиметров, трактор пришлось бы вызывать! — И вдруг, без всякого перехода: — Инна Васильевна, а вчера… на Ленина когда были… ты ничего такого не видала?
Инна стиснула кулак и разжала, посмотрела на черную ладонь в перчатке.
Первое жизненное правило гласило — никогда и ничего не бояться, особенно когда точно не знаешь, где опасность.
— А что я должна была видеть, Осип Савельич?
— Да ведь… померла вдова-то.
Инна молчала.
— Ты вчера с ней повидалась? Разговаривала с ней?
«Вольво» плавно причалил к замусоренному и бедному подъезду Белоярского телевидения. Возле обшарпанной двери курили какие-то мужики в шарфах и шапках, но без курток. Едва завидев Иннину машину, один из них щелчком далеко отбросил окурок и потрусил к ней, на ходу поправляя шарф, словно галстук-бабочку.
— Осип Савельич, — быстро сказала Инна, глядя на приближающегося, — мы с тобой потом поговорим. После эфира, ладно?
— Проводить тебя?
— Не надо. Тут полно провожающих.
Неодобрительно, как показалось Инне, Осип щелкнул кнопочкой замка. Дверь с ее стороны распахнулась.
— Инна Васильна, рад приветствовать! Пойдемте скорее, у нас до эфира семь минут.
— Успеем, — хладнокровно сказала Инна и вскинула на плечо крохотную красную сумочку, женственную и мягкую, как сама женственность и мягкость.
Громадный джип с мигалкой на крыше и бронированный тяжелый «Мерседес» — разумеется, черные и мужественные, как сама чернота и мужественность, — оказались с другой стороны крохотной стоянки. Инна прошла мимо них, как кошка Джина мимо только что разорванных хозяйских колготок — словно они не имели к ней никакого отношения.
Цокая каблуками, она пролетела холодный тамбур, «провожающий» — или «встречающий», кто его знает! — что-то говорил за ее спиной задыхающимся голосом. Она не отвечала. Ей нужно было подумать и не хотелось разговаривать.
Знакомые прокуренные коридоры вывели ее к знакомой крохотной студии. Возле дверей, рядом с которыми обыкновенно не стояло ничего, кроме пепельницы на длинной ноге, на этот раз стояло нечто с каменным лицом, каменными плечами, каменными руками, в каменном черном пиджаке и бетонном сером галстуке. Кажется, в литературе это называется «неброский».
Да. В «неброском» галстуке. Вот так правильно.
Инна взялась за длинную холодную ручку, а «неброский» галстук навстречу этому ее движению шевельнул частью своей кирпичной кладки, словно вознамерившись ее не пускать.
— Это на эфир, — нервно засвистал из-за плеча «встречающий-провожающий». — Инна Васильевна Селиверстова. Руководитель управления информации края.
Кирпичная кладка замерла. Из-за двери доносились голоса. Один властный, похохатывающий — Ястребова. Нервно-заискивающие — всех остальных.
Ну что ж. Она готова.
Шевеление кирпичной кладки ее не касалось — осмелился бы он ее не пустить! Он и не осмелился — Инна распахнула дверь, шагнула в сияние мощных ламп и громко сказала:
— Добрый вечер.
Навстречу ей все смолкло. В комнате было полно народу. Двое или трое, с ходу она не разглядела, каменных и черных, нервная съемочная группа в джинсах и замусоленных свитерах, и в центре — Ястребов Александр Петрович. Инна увидела, как он повернул голову, сверкнули его очки.
Изумление, плеснувшееся в этих самых очках, которого он не сумел скрыть, порадовало ее.
— Я чуть не опоздала, прошу прощения. Не по своей вине.
Она скинула шубу на чьи-то руки и даже не посмотрела, на чьи. Поправила челку и перекинула сумочку с одного плеча на другое.
Ястребов поднялся. Лицо его стало каменным, на манер только что виденного возле плевательницы.
— Ястребов Александр Петрович.
— Селиверстова Инна Васильевна. Очень приятно.
Приятно ей точно не было. По позвоночнику как будто пропустили ток. Ей казалось, что вокруг нее потрескивает электрическое поле и вспыхивают синие искры — они даже отражались у него в очках. Или это лампы отражались?..
Все остальные присутствующие были значительно ниже этих двоих по всем известным и неизвестным табелям о рангах, поэтому толклись в некотором отдалении, не смея ни заговорить, ни приблизиться. Московского телевизионного ухарства, когда нам сам черт не брат, в Белоярске не было и в помине — и вот выжидали, нервничали, переминались, но молча и поодаль.
Инна точно знала, сколько времени у них до эфира — три с половиной минуты, — и точно знала, когда нужно взять инициативу па себя.
— Я думаю, нам пора в студию, — объявила она и улыбнулась ведущей в синем с блестками костюме. — Сумку я оставлю здесь, разрешите?
— Да-да, Инна Васильевна, конечно! Вася, возьми сумочку!.. Ребята, садимся в студию! Где звукорежиссер, надо прицепить микрофоны! Люда, Люда, не слева, а справа!.. Она на правом кресле, а он на левом!.. У ведущей правая щека темнее, дайте пудреницу! Да быстрее, черт вас побери!..
Инна взбежала на подиум, процокала каблуками и села в свое правое кресло. Ястребов на нее не смотрел, старательно улыбался синему костюму с блестками.
Он не был готов, а времени подготовиться не оставалось. Хоть бы помощник сказал ему, что его сегодняшний противник — она!
Он согласился на эфир, потому что с чего-то надо начинать победное восшествие на трон, который маячил впереди. Надо, чтобы люди к нему привыкли, начали узнавать на улицах. Чтобы знали, что он все время где-то поблизости, хоть в этом самом ящике, что таращится и бубнит из угла каждой квартиры каждого дома. Он, Александр Ястребов, тоже станет таращиться и бубнить, и все к этому привыкнут и через два месяца сделают то, что должны сделать, — проголосуют за него.
Тема сегодняшней передачи его нисколько не волновала. Свобода слова так свобода слова.
Ни в какую такую свободу он, конечно, не верил, потому что был умен и беспредельно циничен. Он был абсолютно убежден, что за зарплату в сто тысяч долларов в месяц именитый ведущий, тяжко вздыхая и глядя поверх очков, долженствующих символизировать консерватизм и надежность, станет изо дня в день повторять, что в сутках тридцать три часа, а Земля плоская, — и понимал его. Кто угодно станет, не только этот самый ведущий. В конце концов, домик в пригороде Лондона, виллочку в Коста-Браво, теремок в Чигасове надо отрабатывать, а без всего этого жить грустно.
Вот, собственно, и вся свобода слова.
Если найдется умник, готовый заплатить двести тысяч, именитый ведущий еще больше опечалится, вздохнет, наверное, совсем тяжело и расскажет, что нынче стало доподлинно известно, что в сутках пятьдесят два часа, Земля имеет форму равнобедренного треугольника, а в Чечне живут кроткие землепашцы.
Ястребов, как и большинство промышленников, готов был кормить их — в свою пользу кормить, разумеется! — но всерьез считать борцами за какие-то там светлые идеалы не желал. Кроме того, он был уверен — так его научила собственная пресс-служба, — что народу вовсе никакой свободы не надо, что народ против «вседозволенности», что народ устал, ему бы чего-нибудь эдакого, оптимистического, веселенького, хлеба и зрелищ, так сказать, и чтоб зрелища отбирал кто-то умный и снисходительный.