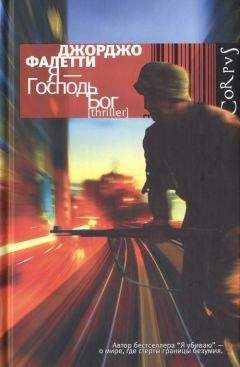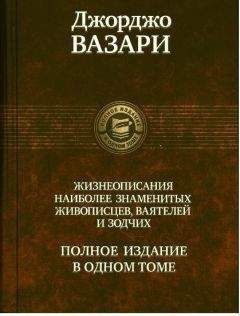Джорджо де Кирико - Гебдомерос
Самое глубокое сочувствие он испытывал к людям доброго нрава, но обладавшим густыми черными бровями; он бы хотел высветлить их, выкрасить их волосы в серебристо-белый цвет и, придав им вид образцовых камергеров, в один прекрасный вечер, во время торжественного представления, заставить этих людей воцариться на лучшей сцене ведущего театра какой-нибудь крупнейшей северной столицы. Увы, желаниям этим не суждено было осуществиться. Город, где прошло его детство, был любимой темой воспоминаний; он всегда говорил о нем с любовью и нежностью, а подчас и с экзальтацией; в этот момент его голубые глаза излучали необычайный мягкий свет; он словно оказывался по ту сторону реального мира и погружался в созерцание высших материй. „Мне кажется, я вижу его, – говорил он глухим, дрожащим голосом, – я верю, что вижу этот город, столь не похожий ни на какой другой. Мне кажется, я вновь переживаю последние часы жаркого летнего дня, когда, завершив свой нелегкий труд, покрытые пылью, падающие от усталости расходились по своим меблированным комнатам работавшие на строительстве железной дороги инженеры. Скрытый густой зарослью рододендронов город изящно располагался у подножия горы, весьма гармоничных, несмотря на ее внушительные размеры, очертаний. Мраморные набережные города раскрывали свои объятия ласкающим их тихим волнам. Тщательно продуманная планировка улиц, обдуваемых свежим ветерком, являла собой радующее душу зрелище. Деревья нежно шелестели листвой. Зеленели газоны. Распустив бутоны, испускали богатый аромат цветы в скверах. Светились чистотой, словно безмятежно и кокетливо улыбаясь, дома. Воздух был теплым, а небо голубым, как и море, сверкающее в глубине длинных улочек. Различные академические классы живописи, музыки, скульптуры и библиотека располагались в одном квартале. Здесь знаменитые профессора читали публичные лекции, а поскольку группы слушателей представляли собой малочисленную аудиторию, каждый имел возможность в полном объеме насладиться образованием. Но наступал момент, когда академические классы и библиотека закрывались и толпы людей покидали здания; а посему на какое-то время на улице возникал затор, но при этом никто не скандалил и не выказывал нетерпения. Общая картина была безмятежной и умиротворяющей. Даже кафе здесь превосходили все ожидания и походили скорее на рестораны. Кафе Дзампани, хозяин которого был моим близким другом, представляло собой подлинный шедевр и пользовалось особой популярностью. Находилось оно на углу улицы, выходящей на главную площадь города. На его террасах и в прекрасно оформленных залах собирались коммерсанты, промышленники, представители артистической среды. Вид кафе во всем обнаруживал особый художественный вкус, простоту и элегантность. Использование новейших технических средств способствовало высокому уровню обслуживания. Вентиляторы поддерживали в залах постоянную атмосферу, насыщая воздух влагой и озоном.
Гурманам menus кафе Дзампани предлагало широкий выбор кулинарных изысков, и в любое время дня можно было заказать коронное блюдо и деликатесы. Предметом особого внимания хозяина были погреба; он отбирал и покупал вина непосредственно на виноградниках и тщательно следил за тем, чтобы на стол подавались бутылки лучшего урожая".
Так рассказывал мой отец», – произнес Гебдомерос, выдержав паузу. Будучи человеком особого склада, чьи странности даже самые умные среди его учеников не в состоянии были объяснить, Гебдомерос, вспоминая о прошлом, постепенно пробудил в себе чувства, подобные тем, что вызывал у него вид крестьян, сначала приговоренных к смерти, а затем помилованных, чьи молодые бородатые лица сохранили выражение тревоги и боли. В их мускулистых телах угадывалась физическая сила, но они стояли задумчивые и кроткие, скрестив руки на груди, и узкие рукава их непритязательных костюмов (они были бедны и не могли себе позволить пиджаки из чистой шерсти, красивые, элегантные и свободные, какие имеют удовольствие носить люди состоятельные, образованные, с хорошим вкусом) плотно обтягивали выпирающие бицепсы. Наверху, на позолоченных осенью холмах, женщины в рубашках с белыми лифами, закатав рукава, давили в стеклянные чаши черный виноград.
Устав от жизненных и метафизических перипетий, Гебдомерос отправился спать и проснулся лишь на следующий день, причем довольно поздно. Однако, пробудившись, он не сразу встал; еще несколько часов он оставался в постели, предаваясь размышлениям, и наконец решился взглянуть на часы, которые всегда держал на стуле рядом с кроватью; было пять часов вечера. «Это время суток, – подумал Гебдомерос, – из двенадцати месяцев года соответствует сентябрю». И тут он понял, что с его стороны было бы логично к концу этого дня завершить свой метафизический цикл. Логику и порядок он любил; время с того момента, когда ему случалось взглянуть на часы и стрелка на циферблате стояла на отметке, соответствующей сентябрю, он считал наиболее благоприятным, чтобы в чем-либо добиться успеха, и лучше было воспользоваться этим счастливым обстоятельством, а не ждать, как говорится, у моря погоды. Гебдомерос знал, что ожидает его не успех, во всяком случае в том смысле, в каком понимает его большинство людей. Не было ни сосания под ложечкой, ни ощущения тревоги и беспокойства, ни этой потребности выговориться, когда невозможно сдержать себя и хочется рассказать, пусть даже первому встречному, о том, что так взволновало вас, не было состояния беспомощности и безмерной слабости – всех тех симптомов успеха, что неожиданно нарушает монотонный ритм вашей жизни. Гебдомеросу, как и всем, приходилось переживать подобного рода моменты, пусть не очень бурно, не до такой степени, чтобы, как собака Улисса, умереть от радости[74] или сойти с ума, подобно художнику Франко Збиско, выигравшему миллион в лотерею и в тот же день потерявшему рассудок. Он чувствовал, а чувства обманывали его крайне редко, что в этот раз речь идет не об успехе, а об уверенности; это чувство уверенности постепенно овладевало им, и он приготовился достойно принять его, как под видом гостии принимает в себя Господа верующий. Гебдомерос открыл окно, но не стал глубоко вдыхать воздух; он не пожелал вести себя ни как вышедший на свободу узник, ни как выздоравливающий больной или кто-либо им подобный; он был из тех, кому сама природа, ее стихии помогали избегать положений, компрометирующих столь серьезного человека, как он. Впрочем, здесь он отчасти лукавил. Воздух снаружи был не чище и не свежее, чем в его комнате; просто воздух в помещении, где находился Гебдомерос, был столь же превосходен, как и снаружи. Ни ветерка, абсолютный покой; дома в этой части города располагались недалеко друг от друга, был предпраздничный день, и в каждом просыпалась надежда на то, что он – полубожество. Полубоги, одетые как все, прогуливались вдоль тротуаров, ждали на перекрестках проходящих автобусов. Если пятый час пополудни отделяет вторую половину дня от вечера, то сентябрь – это граница двух сезонов: лета и осени, что для болезни равнозначно тому моменту, который предшествует выздоровлению и, естественно, в то же время знаменует собой окончание этой самой болезни. На самом деле, лето – это болезнь, лихорадка, бред, изнуряющий пот, бесконечный упадок сил. Осень – выздоровление, предшествующее жизни (зиме). «Да, – подумал Гебдомерос, – это кажется странным, и, рассуждая на эту тему с себе подобными, я рискую сойти за психа и вызвать насмешки со стороны тех логиков, что мнят себя обладателями ключей к пониманию причин и следствий и всему знают цену в этой жизни. Хотя я уверен, что это не так; дурные поступки, фальшивые действия, которые с младых ногтей имеет обыкновение совершать человечество, вынуждают людей сворачивать с истинного пути; точнее, скрывают истину, делают ее, окутывая туманом и дымом, мутной, придают ее земным проявлениям банальный колорит, в результате чего они сливаются с предметами окружающей среды; поэтому невнимательный человек проходит рядом с истиной, слегка касаясь, но не видя ее, а если и видит, то не в состоянии распознать; так охотник с ружьем на плече проходит мимо и не видит неподвижно лежащей перепелки, поскольку цвет ее оперения сливается с цветом земли».
На этот раз Гебдомерос хотя бы знал, о чем идет речь; если прежде он боялся успеха и даже хранил осколки глиняного кувшина в качестве талисмана, защищающего его от постоянной угрозы, то тут он здраво рассудил, что в данный момент страхи его беспочвенны и необоснованны. Он не любил совершать бесполезные действия, когда дело не касалось того, что он называл необходимой тщетой, но в таком случае речь шла уже не о бесполезных вещах. Жизненные теории выводятся на основании пережитого опыта. И какой же вывод он мог сделать сейчас, если не тот, что секрет успеха – этот бесценный секрет, который многие философы теоретически, а основная масса людей практически, мучась и терзаясь, пытаются разгадать, – состоит в том, чтобы ничему не удивляться и ничего не любить? Так что же, это скептицизм? Отнюдь, поскольку то, во что готовы были в моменты особо деликатные и ответственные поверить его противники, являлось правдой лишь наполовину. И еще! Да, без сомнений, он был гордецом, но разве гордость не бывает часто не просто необходима, но даже неизбежна? И не лучше ли испытывать гордость, пусть и с риском разозлить своих современников, нежели вести себя как тот известный придворный, чья память сохранила лишь дурные воспоминания о его затянувшейся деятельности на поприще профессионального служаки? В чем Гебдомерос был уверен и что он доказывал каждый раз, когда такая возможность представлялась, так это то, что наибольшие требования он предъявлял к себе, и прежде всего соблюдал все правила приличия. Разумеется, утверждаться в своем превосходстве, не будучи того достойным, весьма неестественно, да и нечестно по отношению к самому себе. Однако, несмотря на то что над каждым поступком Гебдомероса довлела огромная жажда справедливости, он никогда не испытывал зависти к тем, кто его переиграл. Скорее он склонен был признать, что недруги необходимы. Без них существование рискует стать пресным и нестерпимо монотонным; он полагал, что недруги выполняют важную функцию в организации общественной и индивидуальной жизни человека; в этом они подобны некоторым животным, в той или иной степени неприятным, часто даже отвратительным, чья польза на первый взгляд неочевидна, но их значение в созидательном плане неоспоримо. И потом, разве можно спокойно представить себе существование, в котором нет выбора: оберегать ли ревностно свои иллюзии и восторги, или же ничему не изумляться и никогда не обольщаться? Итак, Гебдомерос не пытался больше скрывать от современников, включая самых близких друзей и наиболее горячих поклонников, свои слабости, не пытался прибегнуть к иным ухищрениям, чтобы заслужить признание. Впрочем, он уже издавна, еще со времен странствий в поисках новых, самых неожиданных зрелищ, питал надежду, что те, кто следовал за ним, не таили на него зла, когда, представляя им то, что скромно именовал своими «чудесами», он использовал особую манеру выражаться. И хотя пользовался он ею с огромной предосторожностью, в любой другой ситуации она способна была вызвать сарказм не только у черни, но и у той части избранных, к которым он не без оснований причислял и себя, но от которых, к своему великому сожалению, вынужден был отступиться, как отступается пророк от своей матери. Каждый раз случалось так, что, создавая нечто особенное, он должен был полностью уединяться и ставить себя по ту сторону добра и зла, причем в первую очередь добра. Задача, в конце концов, не из легких. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он всегда искренне желал удовлетворить самые разнообразные вкусы. Что-то нравилось любителям и коллекционерам, что-то детям, чей голос зачастую определяет всеобщее мнение; было даже то, что особенно нравилось тем взрослым и лицемерным детям, каковыми являются художники. Что же! Между первыми предпринятыми попытками и искусством видеть и выражать увиденное, что, как знает каждый, предшествует собственно поэтическому творчеству, пролегает огромная дистанция. И вопреки всему всегда находились и такие (и это огорчало его больше всего), кто, изумляясь проявлениям его мастерства, его способностью преодолевать многочисленные трудности, ставили ему в упрек то, что он выходит за пределы своих собственных, предоставленных ему природой возможностей. Но именно благодаря этому он занимал привилегированное место, откуда антагонисты тщетно пытались его вытеснить. Особые качества его постоянно оттачиваемого мастерства были не подвластны переменчивой моде. Его система обладала несомненными и неоспоримыми преимуществами. Он работал исключительно быстро и следовал с неукоснительной точностью манере и даже, что было значительно сложнее, характеру вдохновения, однако не стремился быть оригинальным. Он не доверял оригинальности, равно как и воображению. «Не следует подстегивать воображение, – говорил он, – нужно лишь обнажать, поскольку, обнажая жизнь, делаешь ее сносной в том смысле, что примеряешь ее с матерью Вечностью; обнажая, платишь дань тому минотавру, что люди именуют Временем и изображают в образе огромного изможденного старца, с задумчивым видом сидящего между косой и клепсидрой».[75] И вновь Гебдомероса словно пришвартовало к перекрестку; а вода между тем с мягким плеском накатывала на камни морского берега. Что-то вроде нового романтического вдохновения пробудилось в нем; вновь обретя красноречие, он повернулся к своим друзьям и заговорил так: «Ничто не может заменить это непередаваемое удовольствие, результат двадцатилетнего труда и беспрестанных экспериментов; ничто не может превзойти по силе внушения эту божественную серенаду, в которой наше собственное невежество сливается в союзе с таинственным восторгом, с трепетом, точнее, биением сердца при свете луны, когда аккорды гитар захлестывают друг друга, как струи бьющего фонтана. Воспоминания, хранимые нами с момента полового созревания, подернутые вуалью прожитых лет, будто бесшумным ударом крыла накладывают печать на наши замыслы, на наши как сладчайшие, так и требующие неимоверных усилий старания в искусстве, которое есть не что иное, как изобретение человека. Неудачи и разочарования – обильный источник для борьбы с невежеством; о, поэт, следуй мудрым советам твоей музы; она здесь, она в задумчивости оперлась на обломки колонны, по которой скользит ящерица и вьется плющ… О, цветы умиления! Сокровища! Плач! Витание в небесах! Удары крыльев! Утренние песни жнецов! Пленительные интерлюдии! Приношения! Сельские праздники под огромным синим небом! О, пасторали! О, опавшие листья! Слушай неторопливую исповедь старой виолончели или сердце, которое всегда неизменно! Вспомни поцелуй Эвники![76] Вспомни прощание роз! Слушай песню тайного убежища на цветущем берегу! О, незавершенная симфония этого вечного хочу любить тебя! Песни без слов! Печальные грезы! Воспоминания! Recuerdosl О, звездная ночь! Хуанита! Хуанита! А вода все поет и поет в цветущих особнячках супружеских пар поляков! Волны Роданы, волны Рейна! Печаль ландшафтов, то серых, то зеленых, но всегда голубых там, где разливаются озера и простираются широкие моря! Ночные бабочки, опалившие свои крылья об ацетиленовые фонари! Мокрые от дождя осенние листья, кружась, падают на подгнившие балконы ваших особняков! Друзья, у кого тяжело на сердце, раскройте решетчатые калитки ваших садов! Мы поможем вам в работе; мы по-братски, по-дружески, сердечно обсудим все любезно сделанные вами предложения».