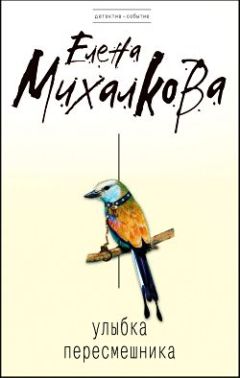Елена Михалкова - Улыбка пересмешника
«Выйди», — одними губами сказал Данила. Таня покачала головой и сделала движение, собираясь задернуть штору. Но он, пожав плечами, шагнул к крыльцу и, прежде чем она успела добежать до двери и запереть ее на засов, быстро вошел в дом.
Татьяна перехватила его в сенях, налетела на него молча, встала, закрывая вход в комнату, где спали Алеша и Матвей.
— Что тебе надо?
— Поговорить пришел.
— Не о чем мне с тобой разговаривать. Убирайся. Закричу!
Он видел по ее лицу, что и в самом деле закричит, и торопливо сказал:
— Тихо ты, дура. Я зачем пришел-то… Мужик у Григория остановился, на острове чего-то ищет. Понимаешь?
Она молчала, и он продолжил уже медленнее, подбирая слова:
— Говорит, что рыбак… Никакой он, к чертям, не рыбак, вот что. Тихо, я сказал!
Она рванулась куда-то мимо него, будто собираясь выскочить из дома, и он перехватил ее за руку. Татьяна дернулась, но Данила сжимал ее тонкую кисть сильными пальцами, крепкими, будто железными, и она не могла вырваться.
— Ты кому-нибудь что-нибудь рассказывала?
Она молчала, пытаясь высвободить руку, и тогда Прохоров наклонился к ней ниже, взял за подбородок, повернул ее голову к себе, так что Таня уставилась на него своими темными глазищами, казавшимися черными в полумраке сеней.
— Ты — кому-нибудь — что-нибудь — рассказывала? — повторил он раздельно, понизив голос.
Она мотнула головой, как норовистая лошадь, и он отпустил ее.
— Таня…
— Никому! — крикнула она шепотом ему в лицо. — Никому, ясно?! А теперь уходи! Убирайся!
Она все-таки вырвала руку и отступила назад, едва не ударившись о стену. Волосы выбились из косы, разметались, и от ее близости, от взгляда — дикого, словно она была зверем, а он охотником, — в памяти Прохорова вспыхнули образы, сменявшие один другой с калейдоскопической быстротой: белоснежное тело с атласно сияющей, неправдоподобно красивой кожей, рассыпавшиеся по плечам черные пряди, красные следы на запястьях… И взгляд — такой же ненавидящий, как сейчас. Но тогда ему плевать было на ее ненависть — точнее, он так думал. Хотел думать.
Против воли он поднял руку и дотронулся до ее лица, провел пальцем по скуле, заранее зная, что за этим последует — удар и, наверное, крик. Татьяна дернулась, как будто он обжег ее, но не двинулась с места. Тогда он положил руку ей на затылок, потянул к себе, и она пошла, и вдруг оказалось, что она уже стоит вплотную, касаясь его плечом, и смотрит в сторону, словно боится поднять на него глаза.
Темнота сгустилась вокруг них, и где-то рядом отчетливо звенел комар, и от женщины, замершей рядом, пахло так, что ноздри изнутри будто обжигало ее запахом, и всего его изнутри обжигало оттого, что она здесь, и не двигается, и не отталкивает его.
— Таня…
Ему показалось, что он произнес ее имя, хотя на самом деле это был вздох, а не слово. Но его оказалось достаточно — Татьяна вздрогнула, словно сбрасывая морок, и в следующую секунду вывернулась из-под его руки, отскочила в сторону, сверкнула глазами:
— Убирайся. Пошел вон!
— Стой…
— Уходи! Ненавижу тебя, понял?! Ненавижу!
Данилу снова обожгло, но на этот раз по-другому — как будто прижали кусочки льда к щекам и по коже потекли холодные струйки. Он тряхнул головой и вновь стал тем человеком, которым привык себя считать: никогда не теряющим голову, тщательно скрывающим кипящие внутри ярость и желание.
— Что, кричать будешь? Да? А если я от тебя прямиком к рыбаку пойду и поговорю с ним о том, что он может на острове найти?
— Нет!…
— Да! Да, красавица моя! Стоит ли кричать, подумай?
Скривив губы в попытке усмешки, он сделал к ней шаг, обхватил ладонью затылок, наклонился и прижался губами к ее губам с такой силой, что она застонала. Он целовал ее, контролируя каждое свое движение, не позволяя себе провалиться в пропасть, которая была совсем рядом, в одном шаге, в одном ее вздохе, насильно заставляя себя прислушиваться к комариному звону, который цеплял его за реальность, держал звонким крючочком. Под волосами на затылке у нее было жарко, и чтобы рука не соскользнула ниже, на тонкую длинную шею, Прохоров сжал пальцы, поймал текучую скользкую волну, и оттянул руку назад, отрывая то ли ее от себя, то ли себя от нее.
— Отпусти… — сквозь зубы выговорила она, не морщась от боли, хотя он знал, что ей больно — волосы он натягивал сильно. — Отпусти меня!
На щеках у нее расцвели два ярких пятна, видимых даже в темноте, и Данила едва удержался, чтобы не поцеловать ее насильно снова. Но делать этого было нельзя. На сей раз он целиком себя контролировал и знал, что сделал то, что сделал, лишь затем, чтобы она не забывала, кто хозяин положения. Хозяином был он, Данила Прохоров. И только он!
Данила удовлетворенно разжал пальцы, и на губах его заиграла усмешка.
— Вот хорошая девочка, — похвалил он, сам чувствуя хрипотцу в своем голосе. — Значит, никому не говорила об острове? Ну и умница.
Он облизнул губы и вышел, окунувшись в вечернюю прохладу, словно в воду. Постоял пару секунд на крыльце, приводя мысли и чувства в порядок, и исчез в темноте.
Глава 6
Ресторан находился на крыше, под стеклянной полусферой, отмытой до такого состояния, когда стекло кажется пленкой толщиной не больше миллиметра. Столики здесь тоже были стеклянные, и Кириллу это всегда казалось нелепым, как и обязательный еженедельный журнал на английском, положенный в кармашек каждого стула. Журналов на русском в ресторане не было: администрация считала, что таким образом ненавязчиво льстит своим клиентам.
Кирилл Кручинин по-английски говорил на уровне пятиклассника, а если бы и нормально говорил, то последнее, что захотелось бы ему делать во время обеда, — это читать иностранную прессу. Он и российскую не уважал, а слово «журналист» считал ругательным.
Однако именно это слово уже несколько раз произнес человек, сидевший напротив него — сухопарый лысеющий мужчина лет пятидесяти пяти с ничем не примечательным лицом, производящий, однако, впечатление основательности и респектабельности.
— Все про кризис талдычат, — в сердцах произнес он, продолжая начатый разговор о вреде журналистов, — нагнетают обстановку, создают панику… Что поразительно в этой стране, Кирилл, — ведь все, все без исключения готовы рубить сук, на котором сидят! Вот что меня поражает. И нет бы по глупости, поскольку не видят дальше собственного носа… Так ведь нет, видят! Видят! Но сиюминутная жадность всегда сильнее. И с писаками то же самое: лишь бы выдать сенсацию, а уж как люди на твой материал отреагируют, что за этим последует — дело десятое. Помяни мое слово, Кирилл: когда строчащие гамадрилы начнут один за другим терять работу, некоторые из них — те, что поумнее, — вспомнят, что сами приложили руку к тому, чтобы это случилось.
— А вы не преувеличиваете, Николай Аристархович? — Кирилл обращался к собеседнику на «вы», зная, что тот не любит фамильярности. — Слишком много шума вокруг этого кризиса. Кто-то волну гонит, хочет бабки заработать… Да, в общем, понятно кто. Проходили мы уже это.
Собеседник Кручинина в изумлении отложил нож, которым собирался разделывать рыбу.
— Кирилл, да ты оглянись вокруг! Ты что, не замечаешь, что происходит?
Кручинин пожал плечами:
— У меня все нормально. Если сделку заключу, то оборудование наконец-то сменю на качественное.
— Слышал. А кредит-то не у меня берешь, у «Альфы», — поддел его Николай Аристархович.
— У вас возьмешь, без штанов останешься, — беззлобно ответил Кирилл, ухмыльнувшись.
— Ну смотри, тебе виднее… Про «Альфу» разные слухи ходят в последнее время…
— Какие? — мигом насторожился Кручинин.
— Разные. Да ты ешь, ешь. Случись что, придешь ко мне, выручу. Как-никак, свои люди.
Знакомством со «своим человеком» Кирилл дорожил. Потому и обедал время от времени в этом ресторане, который терпеть не мог. Николай Аристархович Чирков, которого он про себя называл Банкиром, действительно был крупнейшим акционером банка «Сиб-инвест», и Кручинин хорошо понимал, что такими людьми не разбрасываются.
Познакомились они закономерно, на дне рождения у общего знакомого, а вот сошлись ближе почти случайно: занимались в одном конно-спортивном клубе. Лошадей Кручинин любил до дрожи, и своего коня Антея всегда чистил сам, не подпуская конюхов даже близко к диковатому жеребцу. Он приезжал в конюшню три раза в неделю, проводил там по нескольку часов, и презрительно косился на тех, кто рассматривал лошадь только в качестве ездового животного.
Николай Аристархович, такой же страстный любитель, заметил это и проникся к Кириллу симпатией. Сам он держал двух чистокровных верховых и одного ахалтекинца, при которых состояли два личных конюха, и навещал их почти каждый день, гоняя своих верховых до пены. Сперва они разговорились о достоинствах разных пород, затем сдержанно похвалили лошадей друг друга, потом при случае пообедали вместе. Кириллу импонировало знакомство с Банкиром, и он охотно и почти без всяких усилий изображал, что нуждается в его советах, а Николаю Аристарховичу нравилось видеть себя в роли учителя.