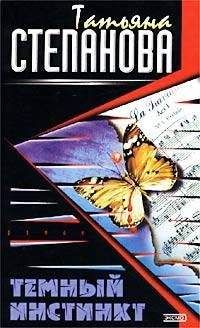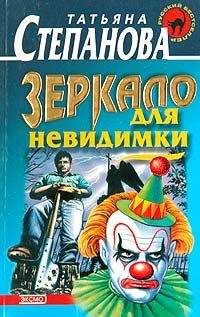Татьяна Степанова - Призрак Безымянного переулка
Приняв на грудь, начинают вспоминать разные случаи: и про аварии, и про дебоширов-пассажиров, и про нехорошие маршруты.
И когда речь заходит об этом, как раз вспоминают двадцатый маршрут. Рассказывают всегда одно и то же:
«Не дай бог ночью свет отключат на линии, когда ты ведешь трамвай по Андроньевскому проезду! И трамвай твой встанет! Там такое ночью можно увидеть…
Была такая Клава Пересудова. Работала в трамвайном депо и от мэрии даже, от столичного Департамента транспорта благодарность имела за отличную работу вагоновожатой. А потом в одночасье угодила в сумасшедший дом.
Прямо оттуда ее, беднягу, увезла «Скорая психиатрическая», из Андроньевского проезда, по звонку аварийной службы. Те приехали, да поздно уж было. Клава Пересудова со страху помешалась».
Вот что болтали досужие языки, развязанные водкой на домашних посиделках тети Мани. Эльвира Печенкина слушала. Как не слушать, когда каждый день ты сама эту чертову «двадцатку» водишь!
Россказни сводились к одному: то был обычный зимний вечер, когда темнеет рано. День выходной. А в эти дни на отрезке между Андроньевской площадью и Лефортово пассажиров мало. Ночью же трамваи идут совсем пустые. И Клава Пересудова вела свой трамвай от Андроньевской площади к Волочаевской улице. И так вышло, что на электроподстанции возникли неполадки, выбило все. Ток пропал.
И трамвай Клавы Пересудовой встал посреди Андроньевского проезда, не доезжая Гжельского переулка. Встал рядом с домом на углу Безымянного переулка.
А дом пустой, нежилой, старый.
А тьма кромешная в этой «кишке», как называли водители трамваев Андроньевский проезд, когда все фонари отключаются.
И вот, говорят, Клава Пересудова, глянув в сторону темных окон нежилого дома, узрела огонек. Утлый, мерцающий, гнилой какой-то огонек. Он плыл в сторону окна из глубины дома.
Клава Пересудова вроде как и глаз не могла от него отвести – пялилась через стекло водительской кабины. А огонек все мерцал, мерцал, словно гипнотизировал.
А потом потух.
Она очутилась в кромешной тьме.
Потеряла счет времени.
И вдруг…
Огонек вспыхнул снова, словно там, в доме, к окну поднесли свечу или фонарь. И на фоне этого мертвого света Клава Пересудова увидела лицо.
Словно маска из белой бумаги… Нет, это белая кожа…
Вот кожа лопнула и брызнул гной. Земля посыпалась. И наружу полезли черви.
Пустые глазницы налились желтым голодным светом.
Лицо прилипло к стеклу. Тварь… Эта мертвая тварь ощерила пасть…
И стекло покрылось сетью трещин, как паутиной, – вот-вот вылетит, и тогда…
На посиделках рассказывали, что приехавшие рабочие аварийки нашли водителя трамвая Клаву Пересудову в состоянии умоисступления. Она плакала, кричала и наотрез отказывалась открыть дверь водительской кабины. И только доктору в сумасшедшем доме она якобы рассказала о том, что увидела в ту ночь в этом чертовом месте.
Девяностолетний отец тети Мани на таких посиделках обычно к этой истории про маршрут двадцатого трамвая добавлял свое.
Мол, он еще пацаном в тридцатых на кухне в коммуналке слыхал, что дом тот принадлежал купцу, замешанному в темных делах. Купец, мол, владел мыловаренной фабрикой – ну, той, что в Безымянном. А хотел он сделать духи-одеколон и за это продал душу дьяволу. Но духи-одеколон так и не вышли у него. А вот дьявол с него получил все сполна.
Об этом шушукались староверы, жившие в окрестных переулках в мещанских деревянных домах. Дома те в тридцатых, когда строили дом культуры завода «Серп и Молот», все сломали, а староверов сослали на Соловки.
Эльвира Печенкина, девушка современная, любившая слушать Земфиру и группу «Сплин», таким разговорам, конечно, не верила.
Но перспектива оказаться в том месте, у того дома ночью, да еще когда вырубится электроэнергия и трамвай встанет, ее пугала.
И вот – как назло. Ее смена. Ночь – половина двенадцатого. Дождь как из ведра. Фонари, правда, горят.
Она закрыла двери и тронула трамвай с места. Следующая остановка – Андроньевский монастырь, музей.
В зеркало заднего вида она наблюдала пустой салон. Ни единого пассажира. В музей-монастырь по ночам никто не ездит. Дальше – мертвые места, Андронье, эти переулки, где ничего нет, кроме заброшенных цехов промзоны. Затем пустой, как мертвые соты, дворец культуры «Серпа», обнесенный забором, заброшенный, разрушающийся. Спальный анклав Волочаевской улицы – вот там сердце отдохнет и успокоится. Там обычный кусок городского пейзажа: дома, светофоры, там кладут этот чертов новый бордюр для тротуара, а значит, и ночью работают люди.
Трамвай медленно полз к Андроньевскому монастырю. Подсвеченный с разных сторон, тот походил на малоаппетитного вида белый расписной пряник. Дождь барабанил по стеклу. По мостовой струились потоки воды.
Остановка – монастырь. Следующая остановка – Андроньевский проезд. По требованию.
Да уж, по требованию. Но пассажиров нет, и она это место просто проскочит на большой скорости.
Там спуск с горы и вираж в сторону моста с железнодорожными путями. Эльвира закрыла двери. И повела свой трамвай двадцатый номер вперед.
Шел трамвай…
На площадке кто-то помер…
Тянут мертвеца…
Опа! Дрица-оп-цаца!
Трамвай полз в горку, постепенно набирая скорость. Мимо проплывала белая монастырская стена. Потеки дождя оставляли на ней уродливые разводы, словно стригущий лишай разъедал беленый пряник.
Вот в свете фонаря появились черные железные ворота в язвах ржавчины, мокрые кусты, фасад часовни, крашенной облезлой охрой, но тут же всю эту картину заслонили деревья, и трамвай оказался на вершине холма.
Эльвире Печенкиной на миг показалось, что трамвай, ее «двадцатка», набрал в свои стальные легкие мокрого влажного воздуха, а затем ринулся по спуску вниз, потому что она убрала все ограничения скорости. Машины тоже любят свободу. Трамваи спят и грезят в своих отстойниках о том, как они превращаются в самолеты.
Вон тот старый дом там, в низине, где рельсы делают поворот в сторону мрачной арки железнодорожного моста. Там темно, потому что уличные фонари направлены на эту арку. А дом как стоял пустой и заброшенный, так и стоит. Крышу только на нем обновили. И все стекла в окнах целы, нет ни одного ни выбитого, ни треснувшего.
И, конечно же, все это – неправда. Не существовало на свете никакой Клавы Пересудовой, угодившей в одну ночь в сумасшедший дом от пережитого страха. А если и существовала, то она просто закосячила спайса в ту ночь, когда ток на линии вырубили, и видела глюки в наркоте.
Трамвай дрожал, его слегка мотало, колеса стучали по рельсам. Трамвай мчался вниз, вниз, вниз – вот сейчас вираж, и он нырнет под арку моста.
Но в этот миг Эльвира Печенкина узрела в свете трамвайных фар прямо по курсу на путях какую-то бесформенную кучу среди потоков дождевой воды.
Темная масса…
Что-то белое…
Лицо…
И нет никаких треснувших стекол, темных слепых окон, никаких преград, никакой защиты…
Все уже здесь – страшное, освободившееся из тлена заклятий.
Эльвира Печенкина, не помня себя, завизжала и налегла на тормоз.
Но было уже поздно. Трамвай «двадцатка» всем своим многотонным весом и силой инерции движения под уклон, скрежеща колесами, несся с горы, подминая под себя то, что лежало на рельсах.
Он протащил это по лужам, по выбоинам мостовой. А затем передние колеса выскочили из колеи, и трамвай остановился, стеная, дребезжа, кренясь набок.
Глава 18
Труп
Звонок дежурного ОВД «Таганский» застал лейтенанта Лужкова в постели. Он засыпал, проваливаясь в сон, как в теплый пух.
Около одиннадцати они с Тахирсултаном помыли отца в ванне, переодели в пижамную куртку. Лужков сам облачил отца в ночные памперсы и укрыл одеялом. Слащавая картинка получилась, благостная, семейная. Только вот лейтенант Лужков все никак не мог отвести глаз от шрамов на лбу старика – хирурги в госпитале у него в мозгах поковырялись на славу, извлекая пулю от наградного пистолета. Сколько времени он созерцал шрамы, а все никак свыкнуться с ними не мог. Не мог смириться с тем, что его отец стал таким.
Звонок по мобильному разбудил Лужкова в начале первого. Дежурный по отделу произнес: «Ваш участок Андроньевский проезд? Там дорожная авария с жертвой. ГИБДД уже на месте, эксперт тоже, следователь выезжает, и вы как участковый обязаны прибыть.
Лужков спросонья глянул в окно – дождь. Начал одеваться: джинсы, свитер, куртка, старые кроссовки. Тахирсултан тоже проснулся, спросил, что случилось. Лужков ответил – вызов, спи давай.
Он выпил на кухне холодного чаю, глотнул пару таблеток для поднятия тонуса. И вышел из дома на Валовую улицу, на Садовое кольцо, залитое огнями. Как хочешь, так и добирайся до Андронья. Он стал ловить частника, поймал, и они поехали по ночной Москве.