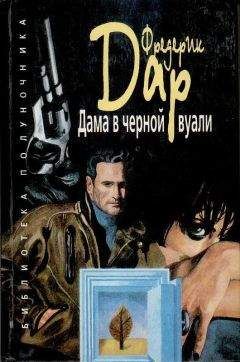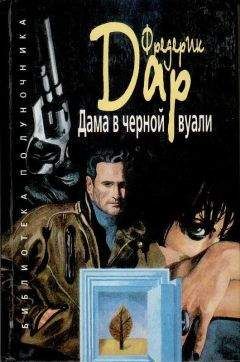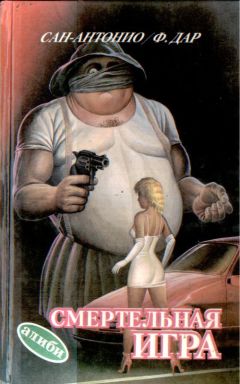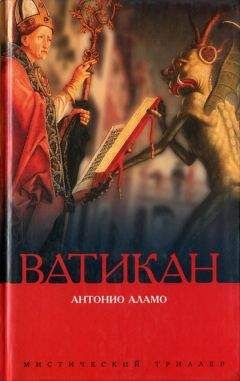Андрей Курков - Последняя любовь президента
Впереди летит еще один вертолет с охраной и каким-то дежурным полковником по спецсвязи.
Я смотрю на специалиста по стрессу. Лампочки в салоне вертолета неяркие. Он сидит в кожаном кресле возле круглого иллюминатора и делает все возможное, чтобы случайно не встретиться со мной взглядом.
– Эй, – обращаюсь я к помощнику, – дай коньяка! И ему дай! – Я киваю на специалиста по стрессу, получая бокал «Хэннесси».
Помощник кивает. Он знает, что говорить со мной лучше жестами и движениями тела. Движения тела не переспрашивают. У них не может оказаться двусмысленной или подозрительной интонации.
Специалист по стрессу вдруг встрепенулся, увидев что-то на земле. Обернулся ко мне и тут же, словно спохватившись, попробовал снова уткнуться в иллюминатор. Но не получилось. Перед ним стоял помощник с бокалом коньяка, а дальше по курсу его взгляда сидел я с таким же бокалом в руках.
– Что там? – спрашиваю я.
– Кажется, посадочная площадка.
Из моего иллюминатора ничего не видно, и я подхожу к нему, заглядываю вниз.
Там светящимися уголками выложен квадрат, рядом видны горящие фары нескольких машин. И первый вертолет уже зависает над подготовленной площадкой.
– Сколько мы летели? – спрашиваю я специалиста по стрессу.
– Полтора часа, – тихо отвечает он.
Внизу – ночь, ветерок. Жужжат негромкими голосами едва различимые в темноте люди, которых собрал в это непонятное место мой стресс. Они обмениваются информацией, командами, словами повышенного значения и такой же ответственности. И вот уже через десять минут кортеж из трех «мерсов» летит по проселочной дороге. Я – в средней машине. Впереди водитель и помощник.
– Они сказали, что там уже все готово, – негромко докладывает помощник на ходу.
– Все? – переспрашиваю я, пытаясь понять, что скрывается за этим коротким бездонным словом.
Помощник знает мои интонации и знает, что я не жду никакого ответа на свой переспрос.
Четыре человека с мощными фонариками расставляют вешки с фосфоресцирующими флажками салатного цвета. Специалист по стрессу возникает из темноты и передает мне в руки легкую лопату с клинком из белого блестящего металла. Его голова наклонена.
– Здесь три сотки, – шепчет он. – Но если устанете, можете сразу прекратить.
Невидимые люди освещают фонариками сухую, брошенную землю. Мои глаза, пообвыкнув к темноте, различают невдалеке хатку, за ней – другие.
Я резко берусь за работу. Лопата отточена, как кинжал. Даже в твердую, сухую землю входит легко, как нож в мясо.
Минут через двадцать начинают приятно щемить ладони. Я вскапываю метр за метром и с почти физиологическим удовольствием ощущаю, как в моем теле происходит борьба бодрости и усталости, как притоки энергии щекочут изнутри мышцы рук, как напрягаются икры, когда я пригибаюсь, выворачивая очередной комок земли.
Я забываю обо всем, кроме лопаты и трех соток. Для меня больше не существует ни охраны, ни вешек, ни людей с фонариками в руках.
– Нам пора! – раздается вдруг рядом знакомый голос.
Я резко останавливаюсь, наклоняюсь вперед к говорящему – это полковник спецсвязи.
– Николай Львович звонил… рассвет через полчаса. Он боится, что вас тут увидят!
До трех соток остается всего лишь пара квадратных метров.
– Докопай! – Я вручаю ему лопату и иду к машинам, у которых словно по приказу одновременно зажглись фары.
Утром в резиденции личный врач обрабатывает стертые в кровь ладони. Рядом стоит опухший от алкоголя и недосыпа Коля Львович. Вдруг в его уставшем взгляде мелькает огонек, и он быстрым шагом уходит.
Возвращается с цифровым фотоаппаратом. Нацеливается на мои натертые ладони.
– Что ты делаешь? – спрашиваю я.
– Нет таких неприятностей, из которых нельзя выжать пользу! – бормочет он и делает несколько снимков.
– Что ты делаешь? – рычу я, одновременно огорчаясь собственному раздражению. – Я из-за тебя, мудака, стресс снимал! На хрена тебе эти снимки?
– Извините, в архив, на память! – Львович делает еще два снимка и беззвучно уходит.
Врач заканчивает обработку ладоней. Мазь, которую он втирает в мозоли и в лопнувшие волдыри, пахнет бараньим жиром.
– Что это? – киваю я на тюбик мази.
– Страусиный жир.
– Я почти угадал, – произношу я удивительно спокойным голосом.
И понимаю, что не зря провел бессонную ночь. Стресс снят. Настроение хорошее. Хочется сделать кому-нибудь подарок или что-то приятное.
– У тебя дети есть? – спрашиваю врача.
– Да, дочь.
– Сколько ей?
– Шестнадцать.
– Тоже врачом хочет стать?
– Нет. Манекенщицей.
– Да? – Я неприятно удивлен, но никакого раздражения не ощущаю.
Снимаю с руки швейцарские часы «Филипп Патек», протягиваю врачу.
– Бери! Подарок! Тебе.
Он поражен. Смотрит испуганно мне в глаза, но часы берет.
– У меня еще сын есть от первого брака, – растерянно говорит он.
– Меня твой сын не интересует, – мягко останавливаю его лепетание. – Можешь идти!
52
Киев. 24 февраля 1985 года.
Дверь открыла круглолицая девушка-пышка в синем спортивном костюме. Глаза – синие-синие, губки толстые и смешливые.
– Вы к кому? – спросила.
Я постучал ботинками по бетону лестничной площадки, стряхивая налипший снег. Неспешно вытащил из кармана куртки конвертик.
– У меня для вас записка. От папы.
– Для меня? От папы? – Ее губы сложились в улыбку, только улыбка получилась немного придурковатая.
– Вас зовут Мира? – уточнил я на всякий случай.
– А-а! – протянула пышка и, развернувшись, махнула рукой в глубь длинного коридора. – Третья дверь налево!
«Ну и слава богу», – подумал я, заходя в коммуналку.
Мира оказалась симпатичней, чем я ожидал. И нос не горбатый. Глаза – темные, цыганские. Фигурка ничего – есть за что рукой взяться.
Прочитав записку, она забеспокоилась. Спросила о Давиде Исааковиче, о его здоровье и настроении. Потом стала угощать меня чаем.
Стены большой комнаты, в которой она жила с матерью, были завешаны множеством старых фотопортретов в деревянных рамках. Две железные кровати были аккуратно застелены и украшены взбитыми подушками. И телевизор на тумбочке был покрыт кружевной салфеткой, поверх которой стояла хрустальная ваза с искусственными цветами. Все чистенько и аккуратненько.
– Вы музыку любите? – спросила она.
– Очень.
– Мы с мамой в Оперном театре работаем. Если хотите, можем сегодня туда вместе пойти. Мне как раз через полчаса на работу.
Я охотно согласился.
Под ногами хрустел снег. Мы поднимались с Саксаганского по Владимирской вверх. Шли молча. Я на ходу поглядывал на ее серые валенки с черными галошами. А я-то думал, что в городе уже валенки не носят!
– Я в магазин на минутку! – сказала Мира, когда мы поднялись к Дому Морозова. – Надо сыра и колбасы на бутерброды купить, а то если покупать их в буфете – дорогие получаются!
Я кивнул. Мира исчезла в гастрономе. Снег падал на мой нос. Темнело прямо на глазах, и по белому снежному сумраку ползли желтые пятна автомобильных фар. Вечер наступал в четыре пополудни. До Оперного – десять минут ходу. Только что мне там делать до семи, когда начнется спектакль?
Мои размышления прервала Мира, вынырнувшая из дверей гастронома.
В театр зашли со служебного хода. Старик-вахтер равнодушно провел по мне взглядом и ответил кивком на «добрый вечер».
Лариса Вадимовна, мама Миры, встретила меня настороженно, но, прочитав записку, переданную ей Мирой, тепло улыбнулась.
Она стояла над гладильной доской, держа в сильной руке тяжелый утюг. На доске блестел изумрудный бархат королевского, должно быть, костюма. Воздух был пропитан нафталином.
Утюг опустился на железную подставку легко, как перышко.
«Интересно, она легко проходит в двери?» – думал я, глядя на могучую, крупную женщину в черной юбке-шатре и бордовой блузке с закатанными до локтя рукавами.
– Мирочка, покажи гостю театр! – произнесла она немного отвлеченно, снова опуская взгляд на записку, зажатую в левой руке.
Экскурсия по Опере закончилась на самом чердаке, куда поднимались мы по приставным деревянным лестницам. Полумрак вдруг отпрянул в сторону, когда Мира чиркнула спичкой. Огонек опустился, дотронулся до фитилька свечки, и перед моим взглядом открылась тайная комната – журнальный столик с пустыми стаканами и чашками, старый продавленный диван, обрезок ковра на полу и старые ободранные афиши, свисающие с деревянных чердачных перегородок.
– Здесь актеры устраивают тайные свидания, – прошептала Мира, и в голосе ее вдруг прозвучало столько нежности и романтики, что я не удержался и потянулся к ней.
Несмотря на продавленность, диван почти не скрипел. Мне было холодно, хотя с себя я стянул только майку и свитер, а с Миры – жилетку, кофту, блузку с длинной майкой и лифчик щедрого размера. Валенки так и остались на ней, правда, галоши она с них сняла раньше, в костюмерной.