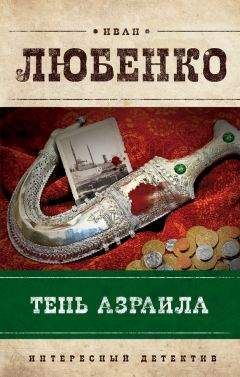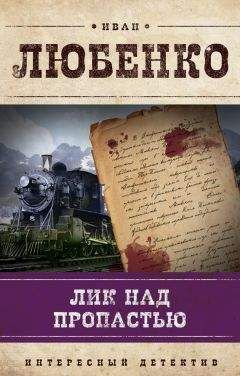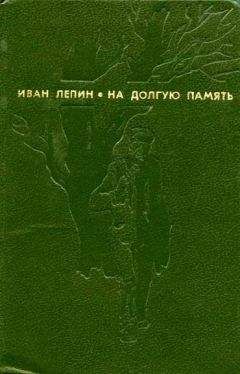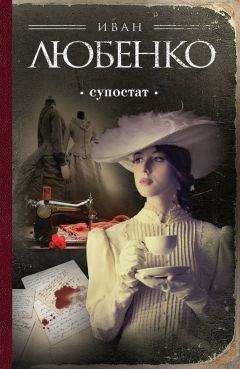Иван Любенко - Черновик беса
— Господи, да вы сумасшедший! — прошептал он.
— Возможно, — я пожал плечами, — ведь в каждом из нас сидит безумец.
— Не убивайте меня, пожалуйста, — не сдержался Птахов и по-детски захныкал.
— Прекратите, сударь. Умрите достойно. Не надо распускать нюни.
— Но я хочу жить, ходить на службу, дышать воздухом, купаться в море, любить свою жену…
— Всё это для вас уже далёкое прошлое. И вы туда уже не вернётесь. На колени! — приказал я.
Всхлипывая, Птахов безропотно опустился на землю. Ствол упёрся в его лоб. Я взвёл курок.
— Передайте привет архангелу Гавриилу, — вымолвил я и нажал на спусковой крючок.
Прогремел выстрел.
Закричали разбуженные в кронах деревьев птицы. Голова жертвы дёрнулась, и безжизненное тело завалилось на правый бок. Запахло жжёным порохом и кровью.
Я убрал револьвер и пошёл обратно, размышляя, почему всё-таки мертвяк упал вправо, а не влево, если я выпустил пулю точно в середину лба. «Скорее всего, это от того, что он опирался не на правое, а на левое колено», — заключил я.
Дорога обратно заняла немало времени, и это понятно: нельзя было брать извозчика-свидетеля. Согласитесь, в данном случае это было бы верхом безрассудства.
Дойдя до пристани, я невольно залюбовался морем и луной, показывающей свой жёлто-красный бок из-за тёмных туч. Стояла тёплая летняя ночь, и на душе было светло и радостно. Шаг за шагом я приближаюсь к своей цели. Но кое-что, сударь, я оставил вам, как говорят французы, pour le bonne bouche.[15] Ждите».
— Пантелеймона убили? — вытирая пот со лба рукавом шлафрока, тихо вопросил Толстяков.
— Пока не найдено тело, говорить об этом рано. Вы сообщали что-нибудь его жене?
— Нет, Катя и так со вчерашнего вечера вся в слезах.
— Надобно срочно оповестить полицию. Покажем им эти бумаги. Собирайтесь, Сергей Николаевич, поедем.
— Да-да, я быстро. Подождите меня.
Не прошло и четверти часа, как четырёхместное ландо уже мчалось к Присутственным местам.
Пристав Закревский и мировой судья Дериглазов что-то обсуждали, стоя у самого входа в здание. Увидев подъехавших, они тут же повернулись к ним. Первым заговорил полицейский:
— А мы, Сергей Николаевич, только к вам собирались. У нас плохие новости. Несколько часов назад рабочий скотобойни обнаружил на пустыре труп вашего шурина.
— Он застрелен? В голову? Из револьвера? — не теряя самообладания, спросил Толстяков.
— Позвольте-позвольте, а откуда вам известны такие подробности? — подозрительно прищурился мировой судья и переложил портфель из одной руки в другую.
— Вот, — газетчик протянул распечатанный конверт.
— Что это? — осведомился пристав.
— Новая глава Беса, — пояснил Ардашев.
— Неужели опять это его рук дело? — покачал головой Закревский и, вынув три листа, быстро прочёл и тут же передал Дериглазову.
— Да-с, выходит, это он, — заключил полицейский. — И печатная машинка всё та же. Когда вы получили письмо?
— Сегодня утром. Нашли под калиткой. А где Пантелеймон? Вернее, когда можно забрать его труп? — волнуясь, спросил Толстяков.
— В больничном морге. Мы уже закончили осмотр.
— Прямо какая-то напасть, — пряча конверт в чёрный портфель, — вымолвил мировой судья. — Все, кто, так или иначе, был связан с вами, достопочтенный господин Толстяков, все погибают от руки некоего Беса. Вот, к примеру, водили вы шашни с женой Лесного кондуктора и — бац! — отравили дамочку. Или взять вашего шурина. Он ведь, судя по прошлым главам, не особенно был к вам расположен, да?
— Допустим, и что их этого следует? — дрогнувшим голосом вопросил Толстяков.
— А то, что сегодня ночью его застрелили. Интересное дело получается: сидит человека дома, романчик пишет, затем идёт на почтамт и сам себе шлёт письма, отводя от себя таким образом подозрение, а потом преспокойненько убивает людей. Правда, перед этим он отдаёт на съедение собакам собственного кота и поливает якобы любимую пальму керосином. Согласитесь, не такие уж и большие жертвы. И, кстати: есть ли у вас пишущая машинка?
— Да, есть, но какое это имеет отношение к убийству Пантелеймона? — побледнев как высохшая известь, уточнил газетчик.
— А такое… — запнулся Дериглазов — самое, что ни на есть важное!
— Послушайте, вы, в самом деле, подозреваете Сергея Николаевича? — глядя в упор на Дериглазова, сухо осведомился Ардашев.
— Глупо подозревать, когда и так всё очевидно.
— Простите, сударь, вы вообще в своём уме?
— Городовой! Городовой! — истошно завопил мировой судья, указывая на присяжного поверенного. — Арестовать его!
Страж порядка развернулся и уже направился к адвокату, как пристав взмахом руки дал ему знак остановиться.
— Мне кажется, Арсений Иванович, вы выбрали не лучшее время для высказывания подозрений, которые я, к тому же, не разделаю, — с укором заметил Закревский. — Не обессудьте, господа.
— Честь имею кланяться, — попрощался Ардашев.
— Да, пора в больницу, — грустно вымолвил Толстяков. — Нас ожидают печальные дни.
Ландо покатилось по набережной. И день был жаркий, и небо синее, и чайки носились над морем, крича, точно оплакивая, ещё одну грешную душу, ушедшую этой ночью в небытие.
Глава 11. Погоня
Прощались с Пантелеймоном Стаховым не на третий, а на второй день. Жара стояла невыносимая, и по дому стал распространяться приторно-горький трупный запах. Гроб вынесли на улицу.
Податной инспектор лежал во фраке, точно манекен. Дырку во лбу замазали глиной и припудрили, но левый глаз посинел, и почти вылез. Екатерина Никитична выплакала все слёзы и теперь тихо сидела на приставленном к гробу стуле.
Народу собралась много. Большинство, из пришедших проститься, не знали покойного и наносили визит либо из любопытства, либо из уважения к Толстякову. Одни клали цветы и венки, другие бросали в тарелку ассигнации. Хоронить усопшего решили на местном кладбище, поскольку довезти тело в столицу не было никакой возможности.
В полдень прибыла похоронная карета, убранная траурными попонами, и четвёрка лошадей повезла останки Стахова в храм Святого архангела Михаила на отпевание.
Уже стоя в церкви рядом с супругой и слушая «Трисвятое» диакона, Ардашев грустно размышлял о бренности мирского бытия, о смысле вечного карабканья по ступенькам судьбы: «Смерть приходит чаще всего неожиданно, и человек, понимающий, что дни его сочтены, с удивлением видит, что он проспал, продремал свою жизнь. Вроде бы ты и на службу ходил, и детей воспитывал, но всегда мечтал о встречах с далёкими странами и островами, о том, что рядом с тобой будет просыпаться любящая и преданная красавица с глазами-блюдцами и ресницами-бабочками, а ночью, после сумасшедшей любви, она заснёт на твоём сильном мужском плече. А дети? Пойдут ли они, плача, вслед за гробом? Навестят ли через год-два твою могилу, присядут ли рядом и помолчат? Вспомнят ли они твою теплоту, добро и ласку, или зарастёт холмик лопухами и лебедой? В чьих мыслях ты останешься? Кому будешь сниться? Кто зажжёт свечу в храме за упокой души твоей и помолится о её небесном благоденствии? Есть ли сейчас на земле, пока ты жив и здоров, вокруг тебя такие люди? А если их нет, то стоит ли и дальше продолжать жить по старинке, ежедневно принося в жертву своё время, здоровье и ум? Действительно ли люди, коих ты называешь «близкими» так близки тебе? Не лучше ли сейчас, пока ещё не поздно, плюнуть на ежедневную рутину и, сбросив ярмо обязанностей, заняться тем, к чему лежит душа и стремится сердце? Много ли тебе надо в этой жизни? Ведь так давно ты мечтал прочитать всего Толстого и Чехова, написать лучший роман или нетленную пьесу. Кто знает, возможно, в тебе живёт нераскрытый литературный классик или великий художник? Дерзай, твори, пока жив, наполняй свой ум красотой бессмертной русской литературы или наслаждайся живописью, словом, живи в своё удовольствие, пока ты на земле».
Люди подходили к усопшему, кланялись и совершали крёстное знамение.
Догорели свечи. Дьяк накрыл тело саваном и домовину вновь погрузили в похоронную карету.
Траурная процессия добралась до кладбища.
Когда гроб опускали на верёвках, вниз сорвался небольшой камень. Послышался глухой звук, точно в оконное стекло ударился слепой голубь.
Толстяков сказал короткую прощальную речь, и люди стали бросать пригоршни земли. Заскрипели лопаты, и могильщики, насыпав холмик, вкопали деревянный крест.
У могилы вся в слезах стояла жена Толстякова — родная сестра убиенного. Сама же вдова, Екатерина Никитична, в чёрном траурном платке, едва держалась на ногах. Вероника Альбертовна успокаивала её, как могла.
— Простите за беспокойство, — послышался знакомый голос.
Толстяков и Ардашев обернулись. К ним подошёл пристав Закревский и сказал: