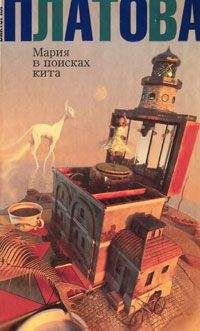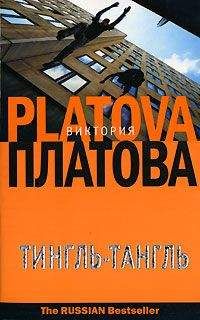Виктория Платова - Она уже мертва
Он запечатлел ее, как умел.
Как умел!.. Только теперь Полина поняла, что выбивалось из стройного ряда детских подарков: альбом с фотографиями. Даже если его подбросил Тате именно Лёка, вряд ли он сделал это по собственной инициативе: слишком сложна драматургия снимков, слишком разные места на них изображены, слишком одинаково не смотрят в объектив герои. Да и потом – Лёка никогда не покидал Крым, представить его в роли опытного папарацци невозможно. Как невозможно представить его дружбу ни с кем, кроме… Сережи. Сережа – единственный, кто время от времени навещал Парвати. Единственный, кто относился к Лёке, как к равному, а вовсе не как к даунито. Но это означает…
Ничего это не означает.
Нужно просто дождаться Сережу, и все встанет на свои места. Вот только что делать с альбомом? В конце концов, она и Тата – не единственные его героини. Есть еще МашМиш, Шило и Ростик. И Гулька, и… двойник Али с прозекторского стола. Что, если альбом – тоже своего рода предупреждение? Довольно серьезное, если судить по последнему снимку. И Полина не имеет права скрывать его ото всех. Странно, что когда все вытягивали на свет божий свои киндер-сюрпризы, Тата и словом о нем не обмолвилась.
Она машинально повернула голову в сторону лестницы, где еще несколько минут назад сидела художница.
Лестница была пуста.
– А где Тата?
Никто не видел ее, никто не заметил, как и куда она исчезла: Шило и Ростик лишь пожали плечами, а Маш выразилась в том духе, что Тата может отправляться куда угодно – к морю, в поселок, в Ялту, в Симферополь, а лучше – так сразу к чертовой матери.
– Она же дохлая!.. – будничным тоном произнес Шило, и Полина вздрогнула. Спустя секунду оказалось, что речь идет всего лишь о стрекозе, которую он выудил из жестянки и теперь рассматривал на свет.
– Сдохла и мумифицировалась. Ай да Лёка! Отжег так отжег!
– Кто-нибудь сходит за этим идиотом? – спросила Маш. – Пусть объяснит, что за комедию он здесь затеял.
Первым на ее слова отреагировал Ростик:
– Я могу. Скажите только, где его искать?
– Почем я знаю? Посмотри на кухне. В мастерской. На старухиной половине…
– Будет сделано.
Сделав несколько шагов к лестнице, за которой располагалась кухня, он едва не налетел на спустившуюся со второго этажа Алю.
– Я принесла! – заявила она. – Вот эта открытка.
Но передать ее сгрудившимся у стола родственникам так и не успела. Улыбка сползла с ее лица, уступив место мертвенной бледности.
– Что это?
Голос Али был так тих и прерывист, что никто не расслышал его толком.
– Что это?!
Теперь она почти кричала, а исполненный ужаса взгляд застыл на пальцах Шила, которые все еще сжимали стрекозу. Первым опомнился Гулька. В два прыжка он оказался рядом с сестрой и успел подхватить ее прежде, чем Аля потеряла сознание.
– Кто-нибудь! Принесите воды!..
Произошедшее с Алей было так странно и необъяснимо, что все на мгновение застыли в растерянности. А потом, суетясь и мешая друг другу, принялись искать пустые стаканы на столе. И лишь Маш не шелохнулась, безучастно наблюдая, как Гулька пытается привести Алю в чувство.
– Что происходит? – спросил Миш.
– Глубокий обморок, – констатировал Шило. – Одной водой здесь не отделаешься. Нужен нашатырь.
– И где его взять, этот чертов нашатырь?
– На кухне должна быть аптечка… Ростик! Поройся в аптечке. Она должна быть в навесном шкафу, справа от холодильника.
Отдав распоряжение тихо исчезнувшему за кухонной дверью брату, Шило присел на корточки перед Алей.
– И… часто с ней такое случается?
– Нет. Давно уже ничего подобного не было.
– Значит, раньше все-таки было?
– Раз или два. Это имеет какое-то значение?
– Мне кажется, она что-то увидела, – высказала предположение до сих пор молчавшая Полина. – Что-то такое, что напугало ее до обморока.
Со времени ухода Али в гостиной не прибавилось ни одного предмета, все вещи стоят на своих местах и тени лежат ровно так, как им положено. Быть может, Аля увидела кого-то за окном, неплотно прикрытом шторами? Или ей показалось, что увидела? Но, если бы речь шла о человеке, она бы воскликнула: «Кто это?»
Кто, а не что.
– Вообще-то, она пялилась на тебя, Шило. Я это точно помню.
Это сказала Маш. И в комнате на мгновение повисла такая тишина, что стало слышно, как по оконным стеклам барабанят капли дождя. И сквозь эту мелкую, частую дробь прорывался еще один звук – далекий и вовсе не такой настойчивый – «ууй-дии! ууй-дии!».
– Что за бред? – Шило даже покраснел от негодования.
– Вовсе не бред. Ты ее испугал. Ты! Вот и Миккель может подтвердить. Правда, Миккель?
– Ну-у, – промямлил Миш. – Что-то такое было.
– А я говорю – бред! С чего бы ей меня пугаться? Как будто она впервые меня увидела…
– Кто знает, кто знает, – губы Маш скривились в улыбке. – Но то, что она испугалась именно тебя, – медицинский факт.
Теперь и Полина вспомнила. Прежде чем Алины глаза затянуло пеленой ужаса, она действительно посмотрела на Шило. На его пальцы, в которых безвольно болталась стрекоза. Но ведь не мертвое же насекомое вызвало у нее такую реакцию? И где оно сейчас? – обе руки Шила свободны.
Спрашивать о судьбе пленницы жестянки Полина постеснялась: глупо в такой момент переживать о насекомом, того и гляди обвинят в элементарной черствости и отсутствии сострадания. Если не сам Шило, то уж Маш точно. Как показывают последние события, ничто не ускользает от ее цепкого и, несмотря на выпитое, трезвого взгляда. Вопрос со стрекозой можно отложить на потом, когда… когда Аля придет в себя.
Ууй-дии! ууй-дии! – продолжает скрипеть тьма за окном.
Что означает этот странный звук?…
Август. Белка…В последующие сутки ничего страшного не произошло. Аста по-прежнему восседала в торце стола, но вела себя совершенно спокойно и больше не приставала к Мишу с дурацкими просьбами. И вообще делала вид, что его не существует в природе, – равно как и его сестры. МашМиш отвечали таллинской кузине таким же хорошо срежиссированным безразличием. Из Лёки и раньше невозможно было вытянуть лишнее слово, а на бормотание и крики малышей Белка с самого начала научилась не обращать никакого внимания. Вот и вышло, что обеды, завтраки и ужины потеряли нерв, и за столом царила самая настоящая скука.
– …Надоело! – сказала Аста в тот самый момент, когда Лёка поставил на стол огромный казан с пловом.
Но реплика эстонки была адресована не ему, а пришедшей следом Парвати.
– Что именно тебе надоело, голубушка?
– Есть по часам со всей этой мелюзгой. У нас дома…
– У вас дома вы можете делать все, что угодно. Хоть на голове стоять. А здесь существует порядок, который не ты заводила. И не тебе его отменять. А тот, кому он не нравится…
– Я поняла, – дерзко перебила Парвати Аста. – Тот, кому он не нравится, – может выметаться.
– Кусочничать я не позволю, – припечатала старуха.
Дом Парвати устроен совсем не так, как Белкина ленинградская квартира. Хотя ее не назовешь маленькой – дом в десять раз больше. А может, даже в сто. В нем два этажа, огромный чердак, который сам по себе занимает целый этаж, и прилепившаяся к массивному телу дома башенка. Есть еще подвал – Парвати называет его «цугундер», вроде бы это должно означать тюрьму или гауптвахту. Вот только томятся там не люди, а банки с соленьями и мешки с картошкой. Отдельную полку занимает варенье – крыжовниковое, черносмородиновое, малиновое. Чуть ниже расположился бутылочный ряд. Все бутылки, как на подбор, пузатые, из темного стекла, с запечатанными сургучом горлышками: бабушка собственноручно делает вино из винограда «Изабелла». По стенам развешены пучки травы, сушеные грибы в марле, лук, сморщенные красные перцы и связки сухофруктов. Есть еще две рассохшихся бочки, старый сундук и кухонная утварь самого разного назначения.
В старом сундуке, по мнению Белки, заключена жизнь Парвати.
Жизнь ее детей окопалась двумя этажами выше, на чердаке со слуховым окном, заколоченным ровно наполовину. Окно – круглое и больше всего напоминает иллюминатор. Напоминало бы, – если бы не доски, скрывающие от глаз ровно половину окружности. Это делает окно похожим уже не на иллюминатор, а на месяц в его промежуточной стадии. Навечно застрявший между тонким серпом и полной луной. И свет на чердаке – мягкий, серебристый, лунный. Он льется на белые сугробы (а на самом деле – на старую мебель, покрытую белыми простынями), на юрты кочевников (а на самом деле – на чемоданы, саквояжи и сундуки). Чердачные сундуки явно моложе цугундерного. Все они заперты, а на крышках красуются самые разные буквы:
П.
В.
С.
Ч.
еще одно П.
и еще одно С.
Это могло бы сойти за дни недели, но для полноты картины не хватает воскресенья. Или вторника. Хотя это вовсе не дни недели, нет! Белкиного папу зовут Петр, отца Ростика и Шила – Павел. Отчима Лазаря – Чеслав (имя странное и красивое одновременно). Зато у дочерей Парвати вполне обычные имена – Вера, Софья и Светлана. Шесть имен, шесть детей, шесть запертых на замок сундучков и старомодных, ростом с Белку, фибровых чемоданов.