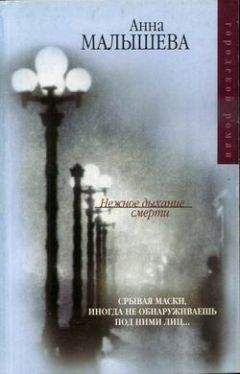Юлиан Семенов - Ночь и утро
Ночью мы пришли в кабачок <Лас Пачолас>. Старик заглядывал сюда со своими друзьями отведать <кочинильо> — молодых поросят и выпить <росадо> из Наварры. Рядом с ним всегда был Ордоньес, герой <Кровавого лета>, сын Ниньо де ля Пальма, лучшего матадора в пору юности Хемингуэя, который известен всему миру под именем Педро Ромеро — девятнадцатилетний мальчик, который нежно любил Брет Эшли, метавшуюся в жизни оттого, что тот, кого она любила по-настоящему, не мог быть с ней — близко, рядом, совсем, так, чтобы была тишина и безлюдье, и чтобы исчезло все окрест, и чтобы два дыхания стали одним. Мы пришли поздней ночью, а может быть, ранним утром, и за столом сидели мои друзья. Когда было сказано много тостов — баски и грузины до сих пор дискутируют, кто от кого произошел: баски от батумцев или наоборот, но тосты они сочиняют одинаково хорошо, — Хуан попросил Дунечку сказать <спич>.
Дуня фыркнула — она не любит говорить на людях, — но все-таки поднялась, и на мгновение лицо ее замерло, и я видел, как она волновалась, а потом она сказала, откашлявшись:
— Когда мой отец возвращался из командировок, он ни об одной стране не говорил так много, как об Испании. Он повторял слова Хемингуэя, что после нашего народа больше всего он любит испанцев. Проверить можно, только когда увидишь и почувствуешь. Я почувствовала и увидала. И поверила — отныне и навсегда.
(Эй, взрослые! Вы создали новые миры! Астроном, открывший звезду, относится к ней с почтением и до конца дней своих не перестает изумляться н о в о м у! Бойтесь п р и в ы к н у т ь к своим детям! Бойтесь страшного и безответственного чувства превосходства оттого лишь только, что они ваши дети и не успели пройти п у т ь. Пройдут еще, пройдут!)
…Ту первую ночь и все другие ночи Сан-Фермина я старался найти те места, где бывал Старик. Я это делал в Париже, и здесь, в Памплоне, я делал это же, оттого что Хемингуэй, открывший нам новые миры, сыграл в жизни моего поколения такую же роль, как в его жизни сыграли Тургенев, Толстой и Достоевский.
Мы пришли с Дунечкой и со скульптором Сангино в <Каса Марсельяно>, что возле крытого <Меркадо>, совсем неподалеку от корраля, где <торо> затаились перед завтрашней корридой, и оказались в такой густой, кричащей, поющей и пьющей толчее, что нам пришлось взяться за руки, чтобы не потерять друг друга. Старик всегда приходил сюда и ел жаркое из бычьих хвостов, совсем не похожее на аккуратный немецкий суп — сытное, до краев, испанское, а потому — очень похожее на русское, хотя такого блюда у нас нет, но и у нас и у них — всегда до краев, а то и через край — от всего сердца, даже если это <до краев> — последнее, что есть в твоем доме…
<Каса Марсельяно> — маленький, двухэтажный ресторанчик. Он пустует все двенадцать месяцев, как, впрочем, и Памплона (я был там осенью 1973 года — глухая, тихая, безлюдная провинция, неужели это — столица Сан-Фермина?!), но в дни фиесты — это храм Братства, церковь Искренности, клуб Товарищества.
В углу, возле камина, сидел Луис Гандика, <ганадеро> из Венесуэлы, с матадором Тино. Гандика подписывает с Тино контракт: профессия <ганадеро> подобна импресарио, только, в отличие от тех, обычных, он подписывает контракт на смерть — и пьет при этом красное вино, и аппетитно ест мясо, и аккуратно снижает цену за выступление, хотя его Пласа де Торос — вторая в мире по величине после мексиканской: сорок тысяч зрителей. Гандика жаловался на рост дороговизны — и в Испании и во всем мире, сетовал на ТВ, которое убивает корриду, бранил власти — в аккуратной и тактичной манере миллионера, которому позволено непозволенное, а Тино сидел отрешенно, словно бы присматриваясь к своему одиночеству среди этой веселой и пьяной, жестокой и нежной толпы санферминцев. Крестьянское лицо Тино малоподвижно, живут только круглые глаза. Все движение собрано, завязано в жгут фигуры: широкие, словно крылья селезня, плечи, балеринья талия, сильные, хотя и очень тонкие, ноги.
Мы вышли из <Каса Марсельяно> и двинулись по калье Эстафета, где завтра, нет, не завтра, а сегодня (ведь уже четыре часа утра), ровно в восемь, когда грохнет пушка, побегут люди (их называют <афисионадо>) по деревянному кораллю, ограждающему витрины, а следом за ними — быки, и люди будут падать и закрывать голову руками, а наготове будут стоять санитарные машины, и зрители — на балконах, на протяжении всех 823 метров улицы Эстафеты, по которой быки будут гнать любителей корриды во время этой полутораминутной <энсьерро> — станут напряженно и тихо смотреть, как погибают или чудом спасаются эти сумасшедшие <афисионадо>.
На Пласа дель Кастильо по-прежнему бушевала толпа: все семь дней Сан-Фермина люди не спят — лишь только утром после <энсьерро> выпьют вина, съедят сандвич и лягут на улице или в сквере, несмотря на категорический запрет полиции. (Впрочем, несмотря на многие категорические запреты, испанцы все более и более открыто игнорируют официальные <табу>. В <Каса Марсельяно>, где сидели за соседним столиком французы, молодые студенты из Мадрида кричали: <Да здравствует блок всех левых сил!> Это было невозможным год назад, как невозможной была открытая продажа советских книг, — сейчас они появились на книжных витринах.)
Мы проталкивались сквозь толпу, к бару <Чокко>, где Старик всегда пил кофе рано утром после <энсьерро>, и я смотрел на Тино, которого многие узнавали, и дивился той маске трагизма, которая была на его лице. Наверное, каждый тореро постоянно ощущает состояние трагедии, и не только в госпитале после ранения, но и сейчас, ночью, глядя на толпу, которая знает его, приветствует и любит, но до тех лишь пор, пока он — Тино и пока он не погиб, или не испугался, или не заболел; тогда его предадут презрительному забвению. (Впрочем, подумал я, только ли к одним тореро приложимо это? Литератор, переставший писать, состарившаяся балерина разве все это не составляет одну цепь — тяжелые вериги искусства?)
…А ранним утром, когда по улице Эстафеты с олимпийской скоростью километр за полторы минуты — быки пронеслись и ранили шестерых <афисионадо>, мы сидели на Пласа де Торос. Только-только с арены ушел оркестр — поскольку люди здесь собираются загодя, на рассвете, часов в шесть, чтобы занять места получше, памплонцы два часа радуют гостей прекрасными песнями Наварры, танцами Астурии, страны басков, и на Пласа де Торос выскакивают зрители, ибо они не в силах сдерживать себя, им надо двигаться, все время двигаться — до тех пор, пока на арену не вбегут люди, а следом за ними, поднимая их на рога и топча копытами не ворвутся <торос>, окруженные волами с колокольчиками на потных шеях. Вот барьер перепрыгнула длинноногая девушка, жеманно пошла, виляя бедрами, задрала юбку, а ведь это не девушка, это парень дурачится: хохот, свист, веселье… Сразу же появляется полиция, <нравственность — превыше всего, что это за французские штучки>, сейчас схватят парня… Но — нет… Изменилась Испания. Полицейских освистали так, что казалось, воздух порвется, словно загрунтованный холст.
— Фуэрра! Вон! Фуэрра! Пошли прочь!
И ведь пошли прочь.
Веселье народного праздника продолжалось на арене до тех пор, пока служащие арены — их называют <работяги корриды> — не затолкали всех на трибуны — пришло время <энсьерро>.
И вот прогремела пушка, и мы услышали шум, и он катился как лавина прибоя, а потом этот единый шум распался на голоса, но и голоса в свою очередь разделились на вопль, тонкий крик, хриплый <а-а-а-ах>, а потом на арену вбежали первые <афисионадо>, а следом за ними, словно пульсирующая кровь из порванной артерии, втолкнулись следующие, а за этой второй партией, закрыв затылки руками, сталкивая друг друга с ног, ворвались третьи, последние, потому что их преследовали быки, и вся Пласа де Торос повскакивала со своих мест, заохала, закричала, а особенно кричали на трибунах <соль>, которые подешевле, и там, в отличие от трибун <сомбра>, все были в бело-красных костюмах, и все с бурдюками вина, и все поили друг друга, запрокинув головы, ловя ртом быструю черную струю тинто, и не проливали ни капли на рубашку, а если и проливали, то что из того? — все равно красный цвет на белой рубашке угоден Сан-Фермину и нужен для того, чтобы загодя злить <торос>, которые сейчас метались по арене, поддевая рогами тех, кто стоял к ним ближе, а остальные переваливались через деревянную изгородь, и что там прыжки Брумеля и Тер-Ованесяна — сигали с места, без разбега, подгоняемые зримым ощущением гибели — отточенным, холодным и гладким рогом быка, который входит в тело, словно в тесто.
Быков, разъяренных, р а с с м о т р е н н ы х зрителями, великолепных быков с финки Миура, что в Андалузии — там отменные травы и мало воды, поэтому они похожи на символы скоростной спортивной мощи, вроде спортивных <ягуаров>, - загнали наконец в ворота, откуда их выпустят в шесть часов пополудни, когда начинается коррида, и на арену снова высыпали сотни молодых и пожилых <афисионадо>, и даже две толстенные американки выскочили на поле (это не переодетые, это — экзальтированные), но их освистали, и полиция прогнала их обратно, и зрители поддержали полицию в этом, и началась игра <афисионадо> с бычками-двухлетками: их выпускали через те же ворота, куда только что скрылись быки борцы-четырехлетки. Но и эти яростные двухлетки, которых выпустили на поле, начали разметывать толпу, и от них убегали, но не могли убежать, и падали, и закрывали голову руками, и сжимались в комочек, маленький человеческий комочек — словно во чреве матери, и бык-двухлеток бил этот комочек рогами и мял копытами, но <афисионадо>, рискуя, дергали быка за хвост и принимали удар на себя, чтобы другие подняли раненого с желтого песка и унесли на трибуны, и на трибунах стоял замирающий, протяжный, тихий, громкий, ликующий, негодующий, непереводимый: