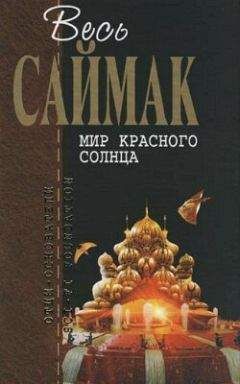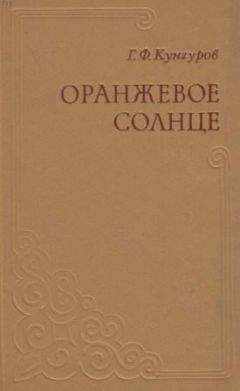Лев Альтмарк - Я — стукач
— О чём разговор! — миролюбиво откликаюсь я и лезу в карман за кошельком. — Сегодня у вас, ребята, будет всем поводам повод. Тут уж действительно не грешно причаститься.
— Какой такой повод?
— Поминки, к примеру.
— А кто дуба врезал?
— Генеральный секретарь.
— Ну, эти поминки не про нас! Там и своих поминальщиков пруд пруди. Ты нам кого-нибудь попроще подгони.
— Склад у меня покойников, что ли? — смеюсь я, но мне почему-то уже не весело. Этим «испанцам» на всё наплевать, кроме своей выпивки. Такое неординарное событие для них пустой звук.
Пойду лучше к шефу. Уж он-то новость оценит достойно. Тем более он недавно по великому секрету сообщил, что из достоверных источников — а что может быть достоверней «Немецкой волны»! — почерпнул сведения о тяжёлой болезни генсека и его недалёкой кончине. Что и говорить — секрет Полишинеля…
Неслышными кошачьими шагами я приближаюсь к столу шефа и тихонько присаживаюсь на стул напротив. Постоянное недосыпание приучило моего начальника мастерски дремать во время работы, не выпускать карандаша из пальцев и тут же вздрагивать от малейшего шороха при чьём-то приближении, словно он вынужден скрепя сердце отрываться от глубоких раздумий над глобальными проблемами нашего очередного инженерного проекта.
И действительно, шеф устало поднимает голову, щурится от света и вперивает в меня настороженный взор:
— Что там у тебя? Только излагай короче, не тяни время. Спину разогнуть некогда, столько дел скопилось…
Хоть вид у него сейчас и грозный, на самом деле мой шеф человек милейший. Изо всех начальников, которые когда-либо командовали мной, он нравится мне больше всех. Ругать и наказывать он просто не умеет и при этом всегда заявляет, что его губит проклятая интеллигентская жалость к человеку. Но самое необычное, что он и в самом деле мало подходит под стандарт начальников, который с годами выработал наш доблестный бюрократический аппарат. Шеф не кичится своим пролетарским происхождением, потому что таковым не обладает, читает не только газету «Правда», но и самую разнообразную художественную литературу и модные толстые журналы, любит кино и фотографию, прекрасно разбирается в джазе. Что ещё? Да разве перечисленного мало?! Одного этого уже достаточно, чтобы заслужить искреннее уважение хотя бы одного человека в отделе — меня. Вероятно, он чувствует это и платит взаимностью. И ни при чём здесь японские транзисторы и джазовые пластинки, которыми я периодически его снабжаю. Это как бы довесок к нашей дружбе.
— Представляете, — сразу беру я быка за рога, — эти несчастные фальсификаторы из вражеских радиоголосов иногда попадают в десятку. Сегодня в два часа дня ещё только собираются передать по нашему телевидению и радио важное правительственное сообщение, а они уже наверняка трезвонят вовсю. Вам ничего не известно?
Шеф испуганно оглядывается и подносит палец к губам:
— Тс-с! Ты что, с ума сошёл?! Повсюду уши!
У шефа есть все основания опасаться подслушивающих. В далёкие студенческие годы он как-то блеснул остроумием, расшифровав в тёплой компании «СССР» как «Союз Советских Сюрреалистических Республик». Кто-то, естественно, доложил куда следует, и, несмотря на хрущёвскую оттепель шестидесятых, нервишки ему потрепали основательно, правда, окончить институт всё же позволили. А если бы такое он ляпнул сегодня? И представить не могу. Но уж начальником отдела он не был бы точно…
Я невозмутимо гляжу на часы и громогласно сообщаю, чтобы слышали окружающие:
— В трауре по вождю ничего постыдного нет, и нечего об этом перешёптываться, будто мы что-то замышляем. Наоборот нужно рыдать во всё горло. Через три часа и самый глухой услышит.
— Откуда ты знаешь? — Шеф подозрительно косится на меня, но его глаза уже приобретают живой блеск.
— Сорока на хвосте принесла. А радио всё же послушайте…
И тут я невольно обратил внимание на настроение публики в нашем отделе. С самого раннего утра вместо традиционных последних известий и репортажей с полей по радио безо всяких комментариев гоняли симфоническую музыку, и это невольно навевало какое-то тоскливое ожидание и тревогу. Народ начал шушукаться по углам — все понимали, что происходит что-то из ряда вон выходящее.
Едва закончился обеденный перерыв, все стянулись к репродуктору в чертёжном зале и за кульманами никого не осталось. Один лишь я неподвижно восседал на своём рабочем месте и старался через силу изобразить на лице полное безразличие, хотя втайне уже начал беспокоиться: вдруг Виктор ошибся или я неправильно его понял, и теперь в результате своего опрометчивого поступка попаду в пренеприятнейшую историю?
Хотя трудно заподозрить, что ребята из его конторы могли пошутить таким образом. Все мы ходим под Богом, да и вообще шутки в их работе — занятие весьма опасное. Косточки в застенках у всех ломаются одинаково… На миг во мне рождается леденящее душу предположение: вдруг они решили проверить меня на паршивость таким садистским способом? И ведь выстрел точно в десятку… Хотя нет, едва ли. Для чего им копать под меня? Повода я не давал, а всё, о чём они меня просили, выполнял пусть со скрипом, но аккуратно. Детективные истории такого пошиба в реальной жизни не случаются — в этом я абсолютно уверен. Это удел киношников да писателей типа Семёнова и прочих сименонов.
Тем более, коллеги Виктора мне, кажется, доверяют, и я не на плохом счету. Правда, лучше не зарекаться. Любые неожиданности могут произойти.
Лучше подождать. Ох, как долго тянется время!
Два часа дня. Всё в порядке. Я на коне. Вообще-то, радоваться чужой кончине отвратительно и не по-людски, но я непроизвольно улыбаюсь и не могу сдержаться.
В спешном порядке в актовом зале организован траурный митинг. Откуда-то принесён и приставлен к трибуне большой портрет Брежнева, и сквозь чёрную шёлковую ленту, опоясывающую портрет, весёлыми бликами охры просвечивают золотые геройские звёзды.
Насытившийся собственным успехом и успокоенный, я гордо восседаю среди коллег по отделу, обсуждающих «этапы жизненного пути» покойного, без интереса вслушиваюсь в речи начальника бюро, потом парторга, пересказывающих своими словами правительственный некролог. Многие поглядывают на меня вопросительно, но я молчу. Мавр своё дело сделал, больше сказать мне нечего.
И вдруг я вспоминаю просьбу Виктора: надо же последить за публикой. О чём разглагольствует народ вдогонку столь неординарному событию? Какие у людей чёрные мысли на уме?
Что и говорить, гадкая у меня миссия, подленькая. Но ничего не поделаешь, по сути дела, это не просьба, это… приказ. Не выслеживать какого-то откровенного недоброжелателя, не хватать за руку коварного диверсанта и вредителя, а только проанализировать обстановку и зафиксировать конкретные факты. Так это, кажется, называется в завуалированной форме? Впрочем, как ни называй чёрное белым, вряд ли оно от этого станет светлее…
Есть испытанный вариант, когда хочется хоть на время успокоить совесть: достаточно сообщить, что всё вокруг нормально и никаких отклонений от норм я не заметил. На нет и суда нет. Да и для Виктора меньше мороки. Мне же не придётся подробно описывать замеченные факты, а ему комментировать услышанное от меня. Потому что каждая моя писулька даёт ход новым десяти, и ведь одна из них обязательно сыграет… Это мы с Виктором отлично понимаем, но на эту тему лучше не разговаривать. Это наше табу. Дел у Виктора и без меня хватает. Всё, что пишу я и такие, как я, его работа…
Пластиночные фарцовщики, перекупщики модных иностранных тряпок, болтуны-меломаны и смурняки-музыканты — всё это, конечно, мелкая рыбка, но именно та публика, с которой я общаюсь вне работы, и именно она входит в сферу его профессиональных интересов. Без зазрения совести я отдаю её на заклание. Кто-то из них в своё время также поступил и со мной, так что мне их жалеть нечего. Своеобразный круговорот подлости в природе… Жёстко, конечно, но сентиментальничать при нашей жизни глупо. Да и почва здесь благодатная — есть за что зацепиться. Клиентов, интересующих Виктора, настолько много, что по ним и отписываться не успеваешь: стоит сказать «а», тебя тут же заставят сказать «б». А дальше пошло-поехало.
Но… стоп! Это уже в некоторой степени секреты, а я, между прочим, давал подписку о неразглашении.
Значит, решено. Вечером скажу Виктору, что ничего сверхъестественного не заметил, народ воспринял смерть вождя с энтузиазмом… виноват, со скорбью, и так далее, и тому подобное.
В моих доносах тоже существуют своеобразные стандарты, которые выработаны не мной и на которых можно выехать, исписав горы бумаги, но так ничего путного и не сообщив. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Хотя нет, не такие уж дураки читают мои бумаги. Отписаться можно в обычные дни, а сегодня едва ли удастся «ничего не заметить».