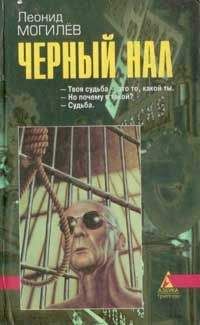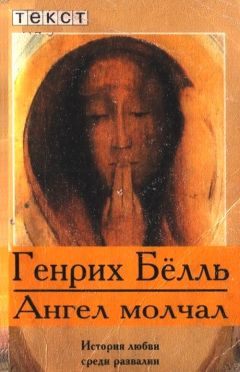Любовь Арестова - Случай на реке
Мы с Гошей Таюрским одновременно глянули на Чурина. Тот смущенно развел руками: об этой швартовке ничего не было известно и ему.
— Порядочки… — протянул Гоша, ни к кому не обращаясь. Чурин намек понял, поднял выше костлявые плечи. Возразить ему было нечего — это был непорядок, если мы не знали о такой важной детали той ночи — о швартовке судна.
Здесь же, на пристани, Никонюк рассказал нам, что его «Сокол», как плавучая лавка, снабжает разбросанные по реке земснаряды и драги продуктами и всем необходимым. В ту злополучную ночь они припозднились и пришвартовались к земснаряду в 0 часов 18 минут. Сам капитан находился в рубке, а вахтенным был матрос Найденов.
— Он по натуре-то незлой человек, этот Найденов, — пояснил капитан Никонюк, — а как потребовал я у него объяснений по этой ночи — разъярился. Швартовался, говорит, как обычно, и ничего не знаю. Одним словом, говорите с ним сами, — подытожил он.
Капитан был прав. Прежде чем отправиться к земснаряду, следовало опросить людей с «Сокола» и в первую очередь матроса Найденова. Мы направились на «Сокол».
Ветер гнал по реке мелкую беспорядочную волну, трап на «Соколе» зыбко качался.
— Вахтенный, Найденова в каюту капитана, — зычно крикнул Никонюк. Спустя четверть часа дверь каюты приоткрылась без стука, показалась взлохмаченная голова молодого парня, который с нескрываемым беспокойством сказал:
— Нету Найденова нигде. Однако на берег сиганул.
— Как нет? — удивился капитан. — Я ведь ему ждать велел!
Матрос молча пожал плечами. Мы с Таюрским переглянулись.
— Ну вот, — хмыкнул Гоша, — еще одна потеря. Начинается работенка.
Действительно, начиналась работа.
Посовещавшись, решили, что Таюрский остается в Жемчужной. Ему предстояло переговорить с командой «Сокола», отыскать матроса Найденова. И еще я напомнил Гоше, что недалеко от Жемчужной, километрах в пяти, не более, находится поселок леспромхоза, где жила, по сведениям годичной давности, семья того матроса, который пропал с земснаряда первым — фамилия его была Тимохин.
Слушая меня, Таюрский лишь молча кивал. Я поручал ему большой объем работы, но я хорошо знал Гошу. Его называли у нас двужильным. Еще больше почернеет, похудеет, но сделает все, что нужно. По-умному азартный, он умел заражать интересом к розыску всех, с кем сводила его служба, и его подчиненные работали так же. Работа с Таюрским считалась удачей, и я был рад, что в таком темном деле рядом со мной Гоша. Рассчитывал я и на то, что Таюрский из здешних мест, а дома, как говорят, и стены помогают.
Одним словом, Таюрский остался в Жемчужной, а мы с Чуриным направились на земснаряд. Не ждет ли там нас новый сюрприз?
Как я и ожидал, на земснаряд мы прибыли засветло. Дождь не прекращался. Усилился ветер. Пузатые рваные тучи плыли по низкому небу, и быстрые струйки дождя, казалось, выстреливали по ним из пузырящейся реки, а не проливались сверху. Капитан земснаряда был какой-то серый и съеженный. Испуганный событиями, он ничего вразумительного пояснить не мог.
— Да, швартовка ночью была. Прошла нормально… «Сокол» стоял у борта до утра, команда отдыхала… Да, вахтенный был на месте… Нет, его не проверял, просто думал, что тот на месте…
Я видел, как злился Чурин. Капитан-наставник понимал, что на судне не было должного порядка. Если капитан судна проспал ночную швартовку — не место ему в капитанской рубке на коварной реке.
Осмотрели вещи пропавшего матроса. Богатство Балабана, хранившееся в небольшом чемоданчике, состояло из смены белья, нескольких рубах, пары полотенец. На гвозде, вбитом в перегородку, висел аккуратно прикрытый газетой костюм. Среди бумаг — паспорт и тетрадь в клеенчатой обложке. Я осторожно полистал тетрадь. Может быть, дневник? Нет, стихи. Матрос Балабан, значит, любил стихи и по-детски переписывал их в тетрадку. И сам, наверное, сочинял, чаще всего так оно и бывает.
Ни записной книжки, ни адресов или телефонов в записях Балабана не было. Видимо, координаты друзей, если они у него были, Балабан помнил наизусть. Вещи матроса не приоткрыли завесу над тайной его исчезновения.
Начинало смеркаться.
Поручив Чурину проверить судовые документы, я начал беседы с командой, которая не уходила с палубы, несмотря на дождь.
— Приходько, заходите, прошу, — крикнул я.
Мощное тело матроса Приходько боком просунулось в узкую дверь крошечной каютки, в которой я расположился. Под распахнутым плащом белую майку на груди матроса украшал олимпийский мишка, так чудовищно растянутый в ширину, что я невольно улыбнулся. Улыбнулась и Приходько.
— Лида, — представилась она, приткнулась на краешек стула и наклонилась ко мне. Толстый медведь-олимпиец удобно уселся на столе.
Итак, впечатлительный бунтарь-матрос оказался женщиной.
— Вы меня послушайте, — начала Приходько, не дожидаясь вопросов, — я на этой землеройке третий год вкалываю, с тех пор, как с мужем разошлась. Хотите верьте, хотите нет, но не нравится мне здесь, ой, не нравится…
Она говорила приглушенно, таинственно, и я видел, как ей хочется, чтобы ее подозрения обрели реальность.
— Вот матрос Балабан, — продолжала женщина, — он свою смерть чуял…
Я вопросительно поднял брови:
— Ну почему же обязательно смерть?
— А я вам говорю, смерть. — В голосе Приходько послышалось раздражение. — С самого первого дня. Как пришел к нам, он, сердечный, все беду ожидал. Ходил смурной такой, неулыбчивый. Бывало, ребята ржут на палубе, а он — ни-ни, не улыбнется. Сторонился всех, шепчет что-то, я сколько раз замечала. А взгляд, — Приходько сложила в замок большие руки, прижала к груди, — взгляд у него был уж не живого человека… Ясно, судьба за ним ходила и настигла вот…
Она говорила так убежденно, что я вдруг почувствовал, как где-то в самом дальнем тайничке моей души зашевелилось желание поверить ее словам, и от этого по телу поползли холодные мурашки.
— Вечером я Балабана на палубе поздно видела, — продолжала между тем Приходько, — духота стояла, перед непогодой этой, однако. Балабан на кнехте сидел, голову опустил, смотрит в воду. Я его еще окликнула: «Колька, ты чего пригорюнился?» Он вроде встрепенулся малость. «Нет, — отвечает, — ничего. Лида, я так». Ушла я к себе. Ночью мне как-то не по себе было. И спала неспокойно. Как «Сокол» швартовался, слышала. У Никонюка голос как труба зычный, мертвого разбудит, а я дремала только. Как «Сокол» к борту нашему ткнулся, вроде я свист услышала. Резкий такой, быстрый…
— Свист? — переспросил я удивленно. Какой-такой свист могла услышать Приходько из своего закутка на камбузе? И тут же вспомнил, что камбуз-то как раз на той стороне судна, куда швартовался «Сокол». Итак, свист. Это новость.
— Человек свистел?
Олимпийский медведь на груди Приходько принял новую причудливую позу:
— Не знаю, — выдохнула Приходько, снизив голос до шепота, — не знаю, что за свист, не поняла. Говорю, короткий свист такой. Я всех своих поспрашивала, его только Линь слышал, да вот я… Утром встали — Балабана нет. Как корова языком слизнула.
Приходько замолчала. В глазах — смесь торжества и любопытства. Действительно, чертовщина какая-то. Я начинал понимать команду, которой эта прорицательница вещала всякие ужасы.
— А Тимохин? — продолжал я спрашивать. — Его вы тоже знали?
Приходько оглянулась на дверь и еще более понизила голос:
— Знала, как же, вместе работали, пока он не пропал.
— Ну а тот, — попытался я пошутить, — тот смерти не чуял?
— Может, и чуял, мне неизвестно. Дело вам говорю, а вы насмешки строите, — обиделась она.
Я поспешил успокоить Приходько:
— Какие же насмешки, я прошу вас о Тимохине рассказать.
— Да что рассказывать-то? — ей явно не хотелось продолжать разговор. А ведь о Балабане она говорила охотно, с азартом. Пришлось повторить вопрос настойчивей.
Приходько долго мямлила о том, что плохо знала Тимохина, мало с ним общалась, что все их знакомство сводилось к небольшим взаимным услугам: она ему белье постирает, он дровишки с берега доставит.
Я слушал, подавляя в себе раздражение. Именно ее наивная попытка отмежеваться от несчастного Тимохина убедила меня в том, что Лида Приходько знала его лучше, чем пыталась представить. Сам не могу объяснить, почему мне в этот момент пришла такая мысль, но я спросил Приходько:
— Когда Тимохин исчез, «Сокол» к вам швартовался или другое судно?
Приходько машинально кивнула:
— «Сокол»… — и осеклась, отвернулась.
— Ну-ну, — напрасно подбадривал я ее. Она только рассердилась:
— Не нукай, не запряг! Не помню точно, была ли вообще швартовка. Не обязана помнить, — отрезала решительно.
Так и пришлось отпустить ее с миром, не добившись больше ничего путного.
Расстались мы не так дружелюбно, как встретились.