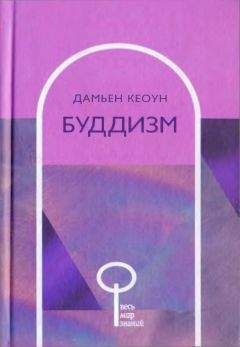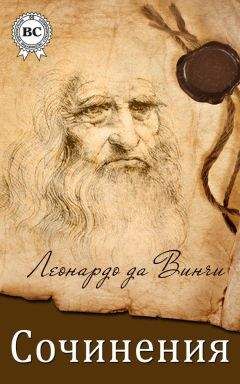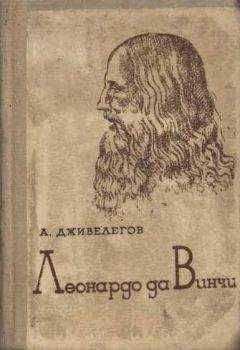Анри Лёвенбрюк - Завещание веков
Короче, о Франции я не вспоминал, отец почти перестал быть кошмаром, а Париж сократился до Эйфелевой башни с почтовой открытки. Прошлое казалось мне таким далеким, что я невольно изумлялся, когда в ресторанах Гринидж-Виллидж официанты обращались ко мне «мсье» на своем ломаном французском.
— Как это случилось? — пробормотал я наконец, не найдя ничего лучшего.
— Глупейшая автокатастрофа. Господи, так все глупо… Вы не хотите приехать в Париж?
Приехать в Париж. Мысль о том, что отец все-таки умер, тут же стала более реальной. Более конкретной. Это был один из таких моментов, когда событие настолько давит на действительность, что начинаешь ощущать, как бегут секунды. Почти слышишь, как тикает громадный механизм воображаемых часов. Во время этих пауз я, как никогда, ощущал полноту жизни. Потому что такие паузы сопутствуют драме. Я из тех, кто часами смотрел репортажи Си-эн-эн, все эти бесконечные, повторяющиеся клипы о войне в Персидском заливе или атаке на башни Всемирного торгового центра. Ибо у меня было чувство, будто я соприкасаюсь с Историей, присутствую при некоем переходе, переломе. Испытываю эмоциональное напряжение одновременно с множеством других людей. В общем, живу.
И сейчас, замолчав перед телефоном, как перед телевизионной картинкой с двумя падающими башнями, я ощутил, что живу. А ведь мне уже очень давно было наплевать на человека, который произвел меня на свет.
— Я… я не знаю. Это действительно необходимо?
Мне казалось, что я вижу, как изумился нотариус по ту сторону Атлантики.
— Ну, — медленно начал он, — надо все уладить с наследством, да и с похоронами тоже, вы сами понимаете… Ведь вы единственный родственник… Но если вам это слишком неудобно, мы можем попробовать сделать что-то по телефону.
Мне очень хотелось сказать «да». В последний раз натянуть нос этому ограниченному старику, который, между прочим, все эти одиннадцать лет тоже не искал встречи со мной. Однако что-то во мне подталкивало к отъезду. Возможно, желание какой-то перемены. Стремление вновь ощутить почву под ногами. И потом, несмотря на нью-йоркский кокон, защищавший меня все эти одиннадцать лет, привязанность моя к этой идиотической стране сильно поколебалась. Мне стало тяжело разыгрывать из себя американца. В сущности, смерть отца пришлась кстати. Хороший предлог для новой встречи с Францией.
— Попробую вылететь завтрашним рейсом, — сказал я со вздохом.
На следующий день, кое-как уладив все дела с моим до смерти перепуганным агентом, я сел в самолет, который вылетел в 14.28 из аэропорта Кеннеди и взял курс на Париж, оставив за собой уродливый skyline[5] царства кабельного телевидения.
Очень скоро я убедился, что счастлив вновь увидеть Париж. Или покинуть Нью-Йорк. Моя жизнь в Соединенных Штатах стала слишком сложной. Увлекательной и вместе с тем ужасной. Как у большинства обитателей Манхэттена, у меня сложились с этим вечно бессонным островом непростые отношения ненависти и любви, начинавшие меня утомлять. Хотелось от этого отойти.
Хотя французы воображают Америку страшно пуританской страной, я обнаружил на нью-йоркском кабельном телевидении такой уровень свободы, какого не предоставил бы мне ни один продюсер шестигранника.[6] В каждой серии «Сексуальной лихорадки» я рассказывал о бурной интимной жизни какого-нибудь очередного жителя Манхэттена. В мельчайших деталях. Шаг за шагом я создавал картину нравов этого города, преступив через все табу, не смущаясь ничем, напротив, бравируя своим цинизмом. Гомосексуализм, любовь втроем, обмен половыми партнерами, преждевременная эякуляция — чем больше я поддавал жару, тем больше это нравилось. Разумеется, американское телевидение не обходилось без секса и до меня, но мне кажется, что я стал первым сценаристом, который заговорил на эту тему с такой обезоруживающей откровенностью. Первый презерватив, разорвавшийся на экране, — это я. Первые споры о запахе пота после близости — опять я. Каждый находил здесь что-то свое. Сексуально озабоченные наслаждались постельными сценами, невротики чувствовали себя не такими одинокими, ньюйоркцы гордились своей неповторимостью, иные впадали в экстаз или притворялись шокированными… Стало модным гадать, кто с кем встретится в очередной серии, выбирать себе любимого персонажа. Короче, успех был такой, о каком я и мечтать не мог. И все произошло очень быстро. «Сексуальная лихорадка» попала в струю. «Trendy», как они говорят. В нужном месте, в нужное время. Вдруг выяснилось, что мне уже не нужно резервировать за много месяцев вперед столик в лучших ресторанах. Моя физиономия мелькала на всех телевизионных ток-шоу и красовалась на обложках самых смелых иллюстрированных журналов. Затем я оказался в объятиях Морин, перейдя от нее к кокаину, а затем к врачу, специализирующемуся на токсикомании, и к адвокату по бракоразводным делам звезд… Для большинства людей свадьба — самый прекрасный день в жизни. Для меня же таким стал развод. Всем этим, да и не только этим, одарил меня Нью-Йорк.
Эти годы прошли быстро, слишком быстро, поэтому я так и не сумел обдумать все, что со мной произошло. Пора было отрываться. Чтобы не спрашивать себя по утрам, что это за тип пялится на меня из зеркала и зачем он тут торчит. Главное же, мне стало не по себе в гостях у Дядюшки Сэма.
Прижавшись лбом к окну в салоне такси, везущего меня в отель, я заново открывал Париж сквозь запотевшее от моего дыхания стекло. Я попросил шофера сделать круг по центру, чтобы сполна насладиться зрелищем. Испортить его не мог даже дождь. Он придавал городу некий странный шарм: тротуары сверкали, мостовая звенела, прохожие бежали. На пешеходных зебрах зонты исполняли балетные па. Все было голубовато-серым. Люди, дома, Сена с ее пустынными набережными, наконец, небо. Ничто не могло бы так удачно совпасть с моим пасмурным холодным настроением. Я радовался своей печали.
Париж не слишком изменился за одиннадцать лет, кроме, быть может, площади Бастилии, на которую словно натянули уродливую маску или покрыли слишком густым и ярким слоем платины. Все кафе походили на нью-йоркские lounge bars— оранжевые с черным, отделанные деревом, переполненные людьми и одновременно холодные. А стеклянное здание оперы, само по себе красивое, нарушало гармонию ансамбля, словно у этой древней площади сместился центр тяжести. Я уехал в Нью-Йорк вскоре после того, как завершилось строительство, и привыкнуть к новой опере просто не успел.
В общем, я наслаждался встречей с городом своего детства, когда такси остановилось у отеля на Вандомской площади. Мой агент Дэйв, как истый американец, не нашел ничего лучшего, как заказать мне номер в «Рице», и я не могу сказать, чтобы меня это сильно обрадовало.
Я уезжал из Парижа нищим, а вернулся почти миллионером. С тех пор как я развелся, никакие траты в Америке меня не пугали — все, что угодно, лишь бы моей бывшей не досталось, но здесь, в этом городе, где были мои корни, в городе, который знал меня потерянным мальчуганом и влюбленным подростком, я испытывал чувство неловкости при мысли, что остановлюсь в отеле, куда одиннадцать лет назад не посмел бы и заглянуть — своих денег мне не хватило бы даже на завтрак, пришлось бы клянчить у папочки, что было для меня полностью исключено.
Не теряя времени даром, я отнес в номер свой чемодан, с удивлением осмотрелся в роскошной комнате — позолота, резная мебель, дорогие ковры — и тут же покинул этот чрезмерно пышный отель, решив немедленно повидаться с нотариусом. Дело предстояло малоприятное, так что лучше было разделаться с ним как можно быстрее.
Контора мэтра Пайе-Лаффита располагалась в старом доме на улице Сент-Оноре. Закругленная крыша из серо-голубой черепицы, белокаменный фасад, почерневший от копоти, большие стеклянные двери, ковры на полу и смешной узкий лифт в клетке — дом был типично парижский. Мэтр Пайе был семейным поверенным, вел все дела моего отца и деда, но сам я встречался с ним только один раз при обстоятельствах не самых лучших-в тот день, когда на монпарнасском кладбище хоронили мою мать. Как большинство друзей семьи, он с ужасом обнаружил, что только я провожаю ее в последний путь. Скотина папаша и не подумал явиться.
— Присядьте. Мэтр Пайе примет вас через секунду.
Я забыл магическое поскрипывание старых парижских паркетных полов. В Нью-Йорке нет ни одной квартиры, где можно было бы услышать этот чарующий старомодный скрип. Войдя в дверь, которую открыла мне полненькая улыбчивая секретарша, я невольно вспомнил приемную дантиста, где провел в детстве столько тревожных часов, умирая от страха перед стопкой мятых журналов — «Мадам Фигаро», «Пари-Матч» и их славных иллюстрированных собратьев, — прислушиваясь к доносящемуся издалека пронзительному звуку бормашины.