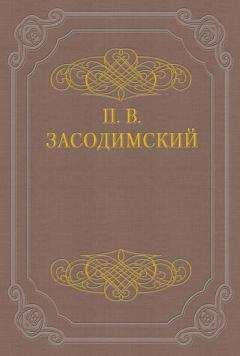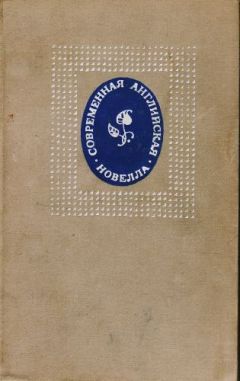Уинстон Грэм - С этим я справлюсь
Трудно жить далеко от дома. Оставайся я с ней, и в голову бы не пришло назвать маму тощей. Но когда вечно уезжаешь и приезжаешь, невольно видишь все другими глазами.
Сегодня мама была в новом строгом черное платье. И она сразу поняла, что я его заметила.
– От «Бобби», семь гиней. Взяла готовое – вот здорово, что сохранила фигуру, верно? Меня теперь там знают и говорят, что мне трудно угодить, но легко подобрать. Послушай, Марни, что-то ты слишком кислая, даже не верится, что вернулась из-за границы. Надеюсь, мистер Пембертон не слишком тебя перегружает?
Мистера Пембертона придумала я три года назад, через год после того, как уехала из дома. С тех пор он действовал, как палочка-выручалочка. Преуспевающий бизнесмен вечно ездил за границу и брал с собой секретаршу, то есть меня; вот почему я вечно в разъездах и не имею постоянного адреса. Этим же объяснялись моя щедрость и привозимые домой подарки. Иногда мне снился кошмар, что мама узнала правду. Не представляю, что с ней будет, если она её узнает.
– Мне не нравится, что ты выкрасила волосы. Словно стараешься завлечь мужчин.
– Но ведь это не так.
– Конечно, слава Богу, ты достаточно умна. Я всегда твержу это Люси.
– Как она?
– Я её отправила за булочками; ты же любишь к чаю. Но она уже еле ползает. Иногда терпения не хватает – у меня с ногой проблемы, и она едва шевелится.
Мы уже сидели на кухне. Где бы мы ни жили, там никогда ничего не менялось. Просто поразительно. Мы переезжали с места на место – и все переезжало вместо с нами; из Плимута – в маленький домик в Сэйнджфорде, потом обратно в Плимут и вот теперь сюда. Все те же чашки и блюдца на той же клеенке, цветная гравюра в рамке, кресло-качалка с мягкими подлокотниками; кошмарная резная полка, изъеденный шашелем буфет и часы. Не знаю, почему я всегда их ненавидела. Прямоугольный ящик, словно гроб, украшенный розовыми и зелеными попугайчиками.
Пока я заваривала чай, мама оглядывала меня с ног до галопы, словно кошка, облизывающая своего котенка. Я привезла подарки: меховую горжетку маме и перчатки Люси, но маму всегда следовало вначале подобающе настроить, долго ходить вокруг да около, чтобы в конце концов она тебе сделала большое одолжение, принимая подарок. Опаснее всего дать заподозрить, что у меня слишком много денег. Мама слово в слово следовала библейским заповедям, висевшим в рамке у неё в спальне, и не дай Бог ляпнуть что-то невпопад. И все же я её любила и ни о ком столько не думала, как о ней, ведь маме хватало силы воли вести свою борьбу за существование, и она всегда свято придерживалась своих принципов. А все её принципы шли от священного писания. До сих пор помню, как она мне всыпала в десять лет, когда я попалась на воровстве. Я не перестаю ею восхищаться, хотя мне это вовсе не доставило удовольствия и после этого я ничуть не изменилась к лучшему, лишь стала действовать так, чтобы она не узнала.
– Французский шелк, Марни? – вдруг спросила мама, глядя на мое платье. – Должно быть, бешеных денег стоит?
– Двенадцать гиней, – ответила я, хотя заплатила тридцать. – Купила на распродаже. Нравится?
Мама не ответила, но, беспокойно заворочалась на стуле, сверля глазами мою спину.
– Как мистер Пембертон? Все хорошо?
– Да, очень.
– Вот на каких людей нужно работать! Я часто говорю приятельницам: Марни служит секретарем миллионера, так он относится к ней, как к родной, верно?
Я заварила чай.
– У него никогда не было детей. Но он, конечно, добр ко мне.
– Но ведь он женат? Наверно, она видит его гораздо реже, чем ты.
– Об этом мы уже достаточно поговорили, мама, – отрезала я. – У нас с ним ничего нет. Я секретарь, и только. Одни мы никуда не ездим. Не волнуйся, мне ничего не угрожает.
– Я часто представляю, как ты разъезжаешь по всему свету, и ужасно волнуюсь. Мужчины всегда стараются застать нас, женщин, врасплох. Нужно быть очень осмотрительной.
И тут вошла Люси Пай, при виде меня пискнувшая, как мышка. Мы расцеловались, и я принялась раздавать подарки. А когда с этим было покончено, оказалось, что чай остыл, и Люси засуетилась, заваривая новый.
Мама стояла перед зеркалом, примеривая горжетку.
– Как лучше – под самое горло или спустить на плечи? Так смотрится богаче… Марни, ты слишком соришь деньгами.
– Но для того они и существуют.
– Для того, чтобы тратить их разумно. Об этом тебе следует подумать. В Писании сказано: любовь к злату – корень всех зол. Я тебе это уже говорила.
– Да, мама. Но там же сказано, что у любой вещи есть цена.
Мама сурово насупилась.
– Не кощунствуй, Марни. Не потерплю, чтобы моя дочь глумилась над священным Писанием.
– Да что ты, мама, ни в коем случае. – Я сдвинула мех ей на спину. – Вот так носят в Бирмингеме. И тебе так лучше.
Потом мы все сели пить чай.
– На прошлой неделе я получила письмо от твоего дяди Стивена из Гонконга. Он там в порту прилично зарабатывает. Я ни за что не смогла бы жить среди желтокожих, но ему всегда хотелось чего-нибудь особенного. Потом найду его письмо. Он передал тебе привет.
Мамин брат дядя Стивен был единственным мужчиной, не безразличным мне на этом свете, хотя я его почти не видела.
– Куда мне такие меха и все прочее? – вздохнула мама. – Твой отец никогда не делал мне таких подарков.
Она священнодействовала с кусочком булочки: осторожно подцепив его большим и указательным пальцами, словно он был хрустальным, положила в рот и осторожно начала жевать. Тут я заметила, как распухли суставы на её руках, и стало стыдно за свою иронию.
– Как твой ревматизм?
– По-прежнему. По эту сторону улицы слишком сыро. После полудня солнца вообще не бывает; покупая дом, мы об этом не подумали. Иногда кажется, что стоило бы переехать.
– Трудно найти что-то приличное за те же деньги.
– Да, но все зависит от того, в каком доме ты хочешь видеть свою маму. На Катберт-авеню, недалеко отсюда, есть прелестный домик. Стоит пустым с тех пор, как хозяин умер от лейкоза. Говорят, перед смертью побелел, как бумага, и селезенка раздулась. Там две гостиных, три спальни, кухня, и мансарда. Нам бы в самый раз, верно, Люси?
Тот глаз Люси, что был побольше, стрельнул в меня из-за чашки, но она промолчала.
– И на каких условиях его сдают? – спросила я.
– Можно узнать. Конечно, будет несколько дороже, но там всегда солнце, и недалеко отсюда.
– Мне нынче снился сон, – сказала вдруг Люси. – Что с Марни случилась беда.
Казалось, долгое отсутствие, другая жизнь, особенно моя, должны были вытравить все прежние привычки, сделать человека взрослым. И все же от тона Люси мое сердце мучительно сжалось, словно мне опять двенадцать, я сплю вместе с ней, и по утрам Люси будит меня словами: «Мне нынче снился сон». Тогда казалось, со дня на день что-то обязательно случится.
– Какая беда, о чем? – вспылила мама, не донося до рта очередной кусочек булочки.
– Не знаю, до этого не дошло. Я просто видела, как она входит в эту дверь, в слезах и платье все в клочьях.
– Играла да упала, может быть, – предположила я.
– Да ну их, твои глупые сны, – отмахнулась мама. – В твоем возрасте пора бы поумнеть. Седьмой десяток, а все как малое дитя. «Мне нынче снился сон!» Кого интересуют твои старческие глупости!
У Люси задрожали губы, она всегда очень болезненно воспринимала разговоры о возрасте, и сейчас обиделась.
– Я только сказала, что видела сон. Разве я виновата, что мне снится? И сны сбываются. Помнишь, перед тем, как вернулся твой Фрэнк…
– Попридержи язык, – оборвала её мама. – Тут христианский дом…
Пришлось вмешаться мне.
– Послушайте, я приехала домой не для того, чтобы вы ссорились. Можно мне взять ещё одну булочку?
Часы пробили пять. Такого странного громкого, но бесцветного боя я ни у одних часов не слышала, а последний удар всегда звучал так тихо, словно издали.
– Раз мы вспомнили былое, почему бы не выбросить эту рухлядь?
– Какую рухлядь?
– Наши кошмарные часы. Меня от их хрипа в дрожь бросает.
– Но почему, Марни? Это подарок твоей бабушке на свадьбу. Там есть и дата – 1918. Она ими гордилась.
– А я гордиться не собираюсь. Снимите, я вам другие куплю. Тогда и Люси дурные сны перестанут сниться.
Со мной в билетной кассе кинотеатра «Рокси» работала Энн Вильсон. Ей было под тридцать. Высокая и тощая, она писала пьесу, надеясь стать вторым Шекспиром. Мы работали по такому графику, чтобы в час пик в кассе сидели двое. Кроме воскресных дней. Но продавала билеты только одна, другая помогала в зале.
Стеклянная будка кассы стояла в центре мраморного фойе. Сразу за входом слева помещался кабинет директора. Кассу оттуда видно не было, но наш директор, мистер Кинг, вечно слонялся взад-вперед, глаз не спуская с подчиненных. Во время сеанса он по крайней мере дважды поднимался в аппаратную, а потом торчал в дверях, раскланиваясь с постоянными зрителями. Трижды в день – в четыре, в восемь и в девять тридцать – он подходил к нашей будке проверить, есть ли у нас мелочь на сдачу, и забрать выручку.