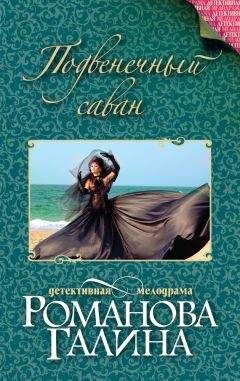Владимир Савельев - Выстрелы в темноте
А между тем за соседним столиком пуще прежнего сгустилась напряженная тишина, свидетельствовавшая о том, что залетные шоферы не угомонились, а, наоборот, намереваются взять реванш, вполне возможно, набросившись для этого на обидчика всей компанией. Вот потому-то, не мудрствуя лукаво, Чудак бросил на стол несколько десятирублевок, после чего демонстративно взял за узкое длинное горлышко большую бутылку из-под вина «Лидия» и резко ударил ею о край своего стола. Нижняя часть бутылки откололась, и, держа перед собой образовавшийся страшный обломок с острыми уступами, Федор боком, боком – вслед за пропущенной вперед девушкой – выбрался и сам из злополучного кафе.
– Господи, какой ужасный вид у вас был только что…
– Не ужаснее, чем у наших противников.
– Ужаснее, Федя, ужаснее! А уж лицо-то, лицо…
– Что – лицо?
– У вас было лицо хладнокровного убийцы.
– Может, это все-таки было лицо настоящего воина? Останьтесь же ко мне по-прежнему снисходительной.
– Как же я могу оставаться снисходительной, если мне кажется, что вы нарочно затеяли эту безобразную драку.
– Ну да? Просто так? Для спортивной разминки?
– Не просто так, конечно. Что-то внутри у вас, Федя, я же говорила, и зудит, и не дает вам покоя. А ведь нас с вами только что могли и побить…
– Я сам кого угодно и побью, и…
– Убью, вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что нам с вами, не мешкая, следует уйти отсюда подальше. Хотя на немедленную расправу эти атланты, видимо, не отважатся.
И тут перед ними вдруг, словно бы из-под земли выросший, появился мужчина, вот только что, еще минуту тому назад сидевший в кафе за столиком у самого входа и, как заметил Чудак, даже поощрительно улыбнувшийся ему и девушке, когда они пробирались мимо. Сейчас этот мужчина беззаботно и хмельно знай покачивался себе перед молодыми людьми, знай широко и неопределенно жестикулировал плохо слушающимися руками, но голос его звучал хотя и приглушенно, но, как чувствовалось, совершенно трезво:
– А вот за такие вольности у нас в ответ не только по физии схлопотать недолго.
– Но вдобавок еще и пятнадцать суток? – криво усмехнулся Чудак. – Так ведь, слава Богу, пятнадцать суток – отнюдь не вечность и даже не вся жизнь.
– Резонно. Но почему только пятнадцать? – возразил странный незнакомец. – Можно загреметь и на тысячу пятьсот суток, учитывая злоупотребление в общественном месте приемами каратэ и джиу-джитсу. А можно и вообще… Одним словом, настоятельно рекомендую строже контролировать свои действия и поступки.
– Говоря о каратэ и джиу-джитсу, вы упустили из виду айкидо, ушу и тейквондо.
– Главным для меня было вас не упустить из виду.
– Да что это он? – испуганно прошептала Лена. – Да кому это он?..
Федор, не отвечая, крепко взял ее под руку и нахмурился, почувствовав, как девушка напряжена и дрожит, словно в ознобе не только от пережитого давеча волнения, но и от этого нежданного-негаданного предостережения нетвердо стоявшего на ногах незнакомца. Некоторое время молодые люди шли по-семейному слаженно, но все-таки молча, ибо каждый по-своему перебирал и оценивал детали как недавнего инцидента, так и последовавшей за ним беседы со странным – то ли хмельным, то ли трезвым – человеком из переполненного кафе.
На баржах, в бетонных хоромах,
Вдоль спусков роятся огни.
Давай удерем от знакомых
Туда, где мы будем одни.
Одни – но отнюдь не в подъезде,
Не в скверике и не в кино.
Одни – но туда, где нам вместе
Лишь это я будет дано.
А что за «лишь это»? А зрелость
Вон там обрести у реки,
Где самая высшая смелость –
Рукою коснуться руки.
Было это интуицией или чем-то иным, но в последние дни Ломунов – и он мог бы принести в том присягу! – постоянно ощущал на себе неведомо кому принадлежащий, но очень внимательный, да еще и, надо полагать, многое фиксирующий взгляд. Все вокруг оставалось вроде бы неизменным: и становящаяся привычной работа, и приобретающие обыденность, на которую уже не реагируешь, бытовые интересы женатых и холостых водителей, и новенькая, еще ничуть (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) не покалеченная на дорожных колдобинах машина – из тех, что как бы самолично предугадывала любое движение шофера за добрые полмгновения наперед.
– Что-то подугомонился ты как-то в своих ухаживаниях за Леночкой, – сделал досужий вывод Михаил Ордынский, когда они с Федором присели однажды передохнуть на расшатанной и узкой пригаражной скамейке. – Что-то как-то сложил ты свои косые крылышки. Или почуял, что и на вольного стрепета найдется у тутошнего вольного же стрелка заветная дробинка?
– Ну ты силен по части образности! Навроде Васьки Кирясова. Речь заводишь, я полагаю, о современных сексе, любви и браке, а сравнения у тебя прямо-таки прапрапрадедовские, – передернул плечами Федор. – Хотя, по правде говоря, охотничья дробь – это не прапрапрадедовские, а более позднее изобретение.
– Вот именно, что более, – не без иронии подхватил словно бы только и ждавший этого уточнения Михаил и складно продолжил: – И следовательно, более близкое уже к нашим счастливым и радостным дням. А в прапрапрадедовские – то бишь, естественно, дохрущевские и даже досталинские – времена по безлюдным нашим просторам прогоняли полудикие стада животных полудикие же кочевники, хмелея от духовитой полыни да от игры ветров в седых ковылях. Куда, скажи на милость, подевалось оно, былое раздолье наших степей? Лемехи социалистических плугов пластами накромсали землю, и к могильным курганам среди таких обезображенных полей боязливо жмутся теперь ковыли, полынь да некогда сочная брица-трава. Но стрепеты, брат ты мой, стрепеты, они птицы вольные и потому, намотай себе на ус, любят только первозданные земли, безлюдные, не тронутые ни плугом, ни вездесущими колесами.
– Стрепеты – это что-то вроде кобчиков или коршунов? – уточнил Федор. – Что-то из породы хищников?
– Стрепеты – это степные куры, – возразил Михаил и снова почти что запел с чувством врожденного артистизма: – Скрытно от людских глаз жируют они себе, быстроногие, да жируют, а потому наклевываются – насыщаются под завязку с утра пораньше и, спасаясь от зноя да от чужого внимания, ложатся на дневку, когда все равно искать пропитание – только когти бить без проку.
Чудак вбирал в себя не только смысл восторженных слов приятеля, но и богатые интонации его от природы сочного голоса, а сам при этом, не отвлекаясь ни на мгновение, держал под контролем то тревожное чувство, которое, словно непрерывный сигнал о близкой опасности, не выключалось в нем теперь ни днем, ни ночью. Не покидало его это чувство даже в те минуты, когда в обусловленный загодя срок поджидал он Лену на вроде бы пустынной улице, то и дело вздрагивая все же, как при давешних спецтренировках в темноте, требовавших мгновенной реакции для выстрела на едва различимый шорох. А то еще просто-напросто страх, казалось бы, давно побежденный им обыкновенный страх проникал в сознание Чудака, и тогда ему явственно чудилось, что из этих вот безобидных кустов или из-за того вон осанистого тополя кто-то пристально и профессионально ведет за ним неодобрительное наблюдение. Ведет, ведет, нет сомнения в том, что ведет, и в немигающих глазах неутомимого этого исследователя, или, вернее, преследователя, от которого ни убежать, ни под землю провалиться, смешались, надо полагать, тень издевки и тень неотвратимой угрозы.
– Для кого я стараюсь тут? – вдруг вопросил Михаил. – Для кого я толкую о стрепетах, наполняющих сны Василия свет Кирясова, когда ты задумался о ввергающей тебя в бессонницу ласточке-касатке? Влюбленный, известно, способен выслушивать только другого влюбленного или самого себя.
– Ты становишься философом. Берегись…
– А почему мне этого надо беречься?
– Потому что ты живешь в государстве с однопартийной системой. И еще потому, что ты одновременно утрачиваешь водительскую квалификацию. Не пришлось бы тебе в конце концов забираться в бочку, как Диогену. А у нас тут бочки сплошь не из-под вина…
– Кое-кого и философия неплохо кормила.
– Ты имеешь в виду жизненные пути наших великих вождей?
– Имею. А почему бы нет? Маркса, например. И хотя бы того же Ленина. Да и Сталина, если на то пошло.
– Нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева не забудь.
– О живых я по вполне понятным причинам говорить не собираюсь.
– Чего же тогда Сталина помянул? Вот уж кто по-ленински «живее всех живых» с «Вопросами языкознания» в одной руке и с окровавленным топором – в другой.
Молодые люди на редкость бойко и доверительно перебрасывались вперебой крамольными фразочками, и мир лежал вокруг них не столько утомленный, сколько чуточку подразомлевший в словно бы подобревших лучах заходящего солнца. Под прозрачно голубевшими высями прозрачно простирались земные дали, неравномерно и негусто, а все ж отмеченные красно-черно-белыми нашлепками сел и деревушек, через которые в течение дня не раз и не два проносились, сутулясь за баранками, оба парня в своих тяжелых, но послушных их шоферской воле машинах. Скорость приходилось сбавлять разве что при пересечении чинных райцентров, где перед запертыми на висячие замки входами в продмаги в специальных (тоже надежно запертых!) металлических клетках грудились полосатые арбузы, словно упитанные матросы в тельняшках, угодившие за тюремную решетку. И тем не менее Федор невольно возлагал сейчас на зтот-то мир особую свою надежду: вдруг все-таки он, этот бурный, но подугомонившийся к вечеру мир отныне и навсегда решительно и надежно укроет его от всех домогательств и всяческих преследователей.