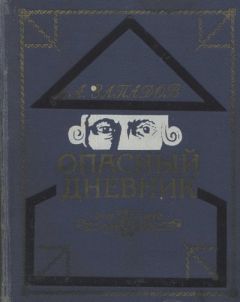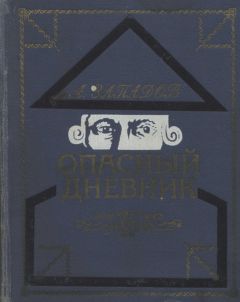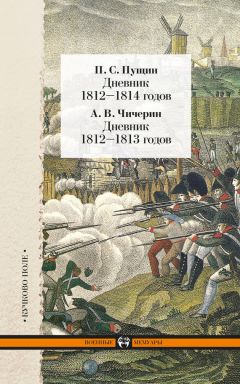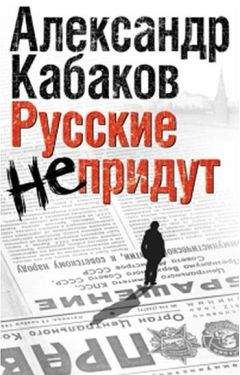Александр Кабаков - Беглецъ. Дневник неизвестного
Между тем, ни о каких встречах на Покровке уже и речи нет. Один только раз за несколько последних месяцев она телефонировала мне в банк, как обычно, от подруги, разговор в присутствии посторонних людей был фальшивый. Она спросила о здоровье, я ответил благодарностью и, в свой черед, спросил, все ли благополучно у нее. Сказала, что благополучно, муж (назвала его по имени и отчеству) получил пенсион и теперь все время дома, по этой причине у нее забот прибавилось. Не зная, что еще спросить, я сделал слишком долгую паузу, так что возникла неловкость, потом вспомнил и осведомился о дочери, на что получил необъяснимо короткое и даже резкое «благодарю», без продолжения. Попрощавшись, мы в одно время дали отбой.
После этого разговора я почувствовал себя странно, будто вот теперь все и кончилось. Понятно, что при безвыходно находящемся в доме муже она уже никак не сможет ездить на Покровку без объяснений своей отлучки, свидания наши вовсе прекратятся. И где-то в самой глубине моей души мелькнуло облегчение, будто донес и снял с себя тяжелый груз… Что же это?! Страшно, страшно жить, страшно жизни и себя самого, готового предать всех, кого любил и люблю. Страдаю от страха за них (опять страх!) и мечтаю освободиться от этого страха, развязать руки, как-то устроить так, чтобы они все были в безопасности и я смог уже безбоязненно встретить все, что будет.
Сегодня вечером, в обратной дороге из Москвы, читал газеты, от которых в последнее время, за частными своими заботами, отошел.
Чтение это привело к тому, что меня форменным образом стало трясти, по дороге от станции к даче, само собой, достал флягу успокоительного и, дважды остановившись, пренебрегая взглядами обгонявших меня попутчиков с позднего поезда, прикончил весь карманный запас разведенного спирта. Теперь я его покупаю не у дезертиров, торгующих, по определению моих желудка и кишок, ядовитой автомобильной дрянью, а у аптекаря, тайно — у него чистый.
В газетах же вот что: англичане воюют по-настоящему, берут тысячи пленных, а у нас тысячами дезертиров ловят, в каждой деревне объявляется «республика», вернулся на родину кн. Кропоткин, анархическое учение которого принесло, по моему убеждению, России столько же вреда, сколько и проповедь другого титулованного бунтаря, гр. Толстого, в Казани страшные пожары, московские дворники стали-таки бастовать, отовсюду сообщения, что цеховых мастеров и другое начальство вывозят с фабрик и заводов на тачках по моде пятого года…
Не то пугает, что придут такие последователи «непротивления злу» и «свободы, равенства, братства» и сразу убьют, это уже не самое плохое, чего можно ждать. А как придется голодать и смотреть, как близкие голодают? Как выгонят из дому и придется искать крыши неведомо какой? Как будем скитаться, постепенно погибая?
Положительно, можно считать меня сумасшедшим, когда живу в собственных хоромах, с прислугою, в полном — с небольшими, разве что, стеснениями — довольстве и сытости, а боюсь нищенства и бездомья. Ничем, кроме как истерическим состоянием нервов, такое настроение объяснить нельзя, и возражать против того, что у меня истерика, я не стану. Именно истерика, усиленная привычкой к постоянному тихому пьянству.
Но разве мне делается легче оттого, что я соглашаюсь с таким толкованием?
Да вот еще что: я уверен, что предчувствия мои верны при всей их чрезвычайной мрачности. Между довольством и нищетою пропасти в нашей российской жизни никогда не было, от сумы и тюрьмы не отказывались, а по нынешнему времени все вообще может случиться в любой миг.
4 июня
В банке тихо, служащие между собой не беседуют, да и времени для этого нет: к каждой кассе стоят по пять—десять человек, выбирают все со своих счетов. Сколько так может продолжаться? По моим подсчетам, мы уже давно должны обанкротиться, но М-ин молчит, из своего кабинета почти не выходит и никого к себе не зовет, кроме Ф-ва, тот там сидит по нескольку часов в каждый день.
Сегодня я ушел из конторы раньше обыкновенного и отправился на вокзал пешком. Сильно об этом пожалел, да уж поздно: на повороте в Орликов стал очевидцем ужасного происшествия, которое и сейчас стоит перед глазами. Издали, шагах в двадцати, увидал, как на панели вдруг собралась небольшая толпа, внутри которой было бурное движение, раздавались крики, а когда я подошел, послышался крик особенно истошный и мучительный. Тут же ударил выстрел, неестественно громкий, толпа в один миг рассеялась, и открылся лежащий на земле щуплый человек в задравшейся солдатской рубахе и деревенских холщовых штанах, голова его была сплошь в крови. Он не двигался, и, когда я подошел поближе, стало ясно, что он мертв, ноги его, с одной из которых свалился разбитый ботинок, дернулись, заскребли пятками землю и вытянулись. Рядом стоял милиционер из тех, что теперь вместо городовых, в кожаной, несмотря на теплую погоду, тужурке, с большим полицейским револьвером в руке. Я остановился, не в силах отвести взгляд от жуткой картины. «Вот, гражданин, видите, обратился ко мне милиционер, тоже, явно против своей воли, не сводя глаз с тела и желая с кем-нибудь поговорить, забрал в булочной на Садовой кассу да бежать, а булочники догнали, стали бить, кто-то в висок гирькой и попал… везде эти дезертиры». Неожиданно для себя самого я спросил стража нового порядка, как и откуда он поступил на эту службу. «Я конторщиком был на Трехгорной, неохотно, но ответил он, член партии социалистов-революционеров… вот, по назначению партии и пошел…» «И что же, лучше здесь, чем конторщиком, спросил я со все более удивлявшей меня смелостью, или лучше было без револьвера в конторе сидеть, а привычные ко всему городовые пусть бы такими делами занимались?» Он ничего не ответил, только посмотрел мне в глаза с заметным недовольством, и я счел за лучшее тут же продолжить свою дорогу.
В поезде не мог опомниться от увиденного, и сейчас еще вижу эту окровавленную голову. Даже писать ни о чем больше не способен.
10 июня, вечера четверть 12-го
Сегодняшнее событие в конторе заслонило все новости последних дней.
С утра М-ин собрал всех, кого зовет обычно: Ф-ва, Р-дина и меня. Без всякого предисловия он объявил, что положение банка безусловно заставляет объявиться банкротами не дальше, чем через десять дней. Уже пора давать извещения в газеты и начинать готовиться к отчуждению дома и другого банковского имущества, которое давно в закладе. Что до наличности, то с нею удалось все устроить самым удобным образом: знакомый М-ину mister D-son, управляющий хозяйственными делами английского посольства, согласился для нужд посольства учесть у нас вексель, обеспеченный Его Величества казначейством Великобритании. Этот джентльмен готов приехать из Петрограда через два или три дня, в таком случае с ним прибудут и посольские офицеры для охраны наличности в обратном пути, так что нам необходимо согласиться о решении как можно скорее.
После короткого молчания первым заговорил Ф-ов в том смысле, что выход из положения единственный, гарантии — солидней некуда, и надо готовить денежные мешки для выдачи англичанам. Р-дин долго раскуривал сигару, выпускал дым, кашлял, однако и он, помявшись таким образом, согласился, что вексель Британской казны — вещь надежная, вывезти его сохранно из России существенно легче, чем пуды наличных денег, так что решение может быть только положительное.
Пока они высказывались, я имел время обдумать свою позицию. Заводить теперь разговор о предложении, сделанном мне революционерами, было очевидно не к месту: как можно равнять тех разбойников с английским дипломатом? Но сразу же (когда речь идет о важных вещах, я оказываюсь холоден и рассуждаю быстро) у меня возникло сомнение, относящееся не до надежности английских гарантий, а к дальнейшим нашим действиям, и я спросил М-ина, как потом будет устроено получение по векселю своей доли каждым из присутствующих. По существу, вопрос мой означал лишь одно — кто повезет вексель?
М-ин ответил без промедления, будучи, очевидно, готов к этому естественному вопросу. Везти вексель может любой из нас, кто в ближайшее время сможет надежным путем покинуть Россию. При этом он должен будет, в свою очередь, выписать векселя оставшимся троим на принадлежащие им суммы, а при встрече за границей или по возвращении в Россию, когда в ней снова установится порядок, эти векселя выкупить. Мы знаем друг друга не первый год, закончил М-ин, так что теперь вряд ли может встать вопрос о доверии…
Я не стал спрашивать, кто, все ж таки, предполагается на самую доверительную роль. Не стал я и прямо возражать против плана, потому что понял, что возражения никакого последствия иметь не будут, только будет вслух сказано то, что всем и так понятно, а я представлюсь предателем общего дела. И от меня начнут скрываться…
На том и разошлись.