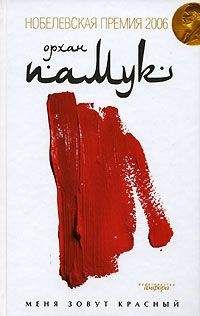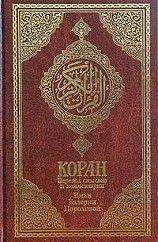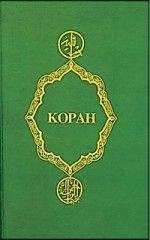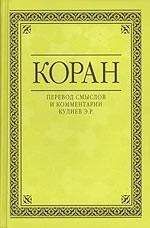Орхан Памук - Имя мне – Красный
– Значит, как следует из третьего рассказа, особенность, называемая стилем, начинается с изъяна? – вежливо осведомился Кара. – С того, что художник наделяет красавицу на рисунке такими же глазами или улыбкой, как у его возлюбленной, подавая тем самым тайный знак?
– Вовсе нет, – уверенно ответил я. – То новое, что мастер привносит в рисунок, в конце концов перестает быть изъяном и превращается в правило. Через некоторое время все начинают, подражая мастеру, рисовать женские лица так же, как он.
Мы немного помолчали. Кара, который очень внимательно слушал меня, когда я говорил, теперь прислушивался к звукам из-за стены: там, по коридору и соседней комнате, тихонько скрипя половицами, ходила моя красавица-жена. Заметив это, я посмотрел ему прямо в глаза.
– Первая история учит тому, что стиль – это изъян, – сказал я. – Вторая – что рисунок, лишенный изъянов, не требует подписи. Третья же история объединяет уроки первой и второй. В ней говорится о том, что подпись и стиль есть не что иное, как бесстыдная и глупая похвальба собственными изъянами.
Насколько вообще хорошо разбирается в искусстве этот человек, которому я рассказал свои притчи? Я спросил:
– Понял ли ты из моих рассказов, кто я такой?
– Понял, – ответил Кара, но прозвучало это совсем не убедительно.
Не пытайтесь понять меня, ограничиваясь его взглядом и мерками. Я сам без обиняков расскажу вам, кто я. Я умею все. Могу рисовать и раскрашивать рисунки так же хорошо, как старые мастера из Казвина, – делаю это легко, улыбаясь. И с той же улыбкой говорю: я лучше всех. И я не имею ни малейшего касательства к исчезновению Зарифа-эфенди, из-за которого, если я правильно догадался, ко мне и пришел Кара.
Кара спросил, как мне удается сочетать занятия искусством и семейную жизнь.
Я много работаю, и работаю с любовью. Совсем недавно я женился на самой красивой девушке нашего квартала. Если я не рисую, значит мы как сумасшедшие, предаемся с ней любовным утехам; потом я снова работаю. Об этом я говорить не стал. Сказал, что приходится очень непросто. Если художник творит кистью чудеса на бумаге, ему не удается творить такие же чудеса в постели; и наоборот, если он сполна удовлетворяет жену, с удовлетворением от искусства дело обстоит куда хуже. Как всякий человек, завидующий дару художника, Кара поверил этой лжи и обрадовался.
Он сказал, что хочет посмотреть на страницы, над которыми я работал в самое последнее время. Я усадил его за свою рабочую доску, среди баночек с красками и чернилами, кисточек, перьев и инструментов для лощения бумаги. Пока Кара разглядывал рисунок, над которым я сейчас тружусь (две страницы для «Сурнаме», церемония обрезания сыновей султана), я присел рядом на красную подушку, тепло которой напомнило мне, что совсем недавно на ней покоились пышные ягодицы моей милой жены. Пока я водил по бумаге камышовым пером, изображая несчастных узников, печально выстроившихся перед падишахом, моя умная жена водила пальчиками по моему «стеблю», отчасти похожему на камыш.
Рисунок на две страницы, над которым я работал, изображал, как султан своей милостью освобождает должников, не сумевших рассчитаться с заимодавцами и приговоренных к тюрьме. Повелителя я посадил так, как он всегда сидит во время этой церемонии (я сам бывал тому свидетелем), – на край ковра, на котором разложены мешочки с серебряными акче. Немного позади султана я нарисовал главного дефтердара[53]; в руках у него – тетрадь, из которой он зачитывает записи о задолженностях. Осужденные должники, которые скованы цепями, продетыми в железные ошейники, преисполняются, попав перед очи султана, печали и страданий: вид у них понурый, брови насуплены, у некоторых на глазах слезы. Когда же они узнают, что султан оказывает им благодеяние, избавляя от тюрьмы, то от радости начинают возносить благодарственные молитвы и читать стихи; рядом красивые музыканты, которых я одел в красное, играют на уде и тамбуре[54]. Чтобы лучше было понятно, какой стыд и душевную боль испытывает человек, попавший в долговую яму, я, хотя это и не было предусмотрено, изобразил рядом с последним из вереницы осужденных его подурневшую от горя жену в фиолетовых одеждах и прелестную дочурку в красной накидке-ферадже, длинноволосую и печальную. Я собирался рассказать, как растянул на две страницы череду скованных цепями должников, объяснить скрытый смысл красного цвета, показать кое-что такое, чего никогда не увидишь у старых мастеров: пересмеиваясь с женой, я пририсовал в уголке собачку и раскрасил ее в тот же цвет, что и атласный кафтан султана. Мне хотелось, чтобы этот хмурый Кара понял, что рисовать – это значит любить жизнь. Но тут он задал мне чрезвычайно неуместный вопрос.
Не знаю ли я, случайно, где может сейчас находиться бедный Зариф-эфенди?
Бедный? Вот еще! Ничтожный подражатель, работающий только ради денег, дурак, не ведающий, что такое вдохновение! Но этого я вслух не сказал.
– Нет, – ответил я, – не знаю.
Не думаю ли я, что на него могли напасть приверженцы проповедника из Эрзурума?
Я снова сдержался и не ответил, что он сам из этих.
– Нет, – сказал я. – Зачем им это нужно?
Бедность, болезни, порча нравов и прочие напасти, терзающие этот город, можно объяснить лишь тем, что мы забыли ислам времен Пророка, посланника Божия, усвоили новые, дурные обычаи и допустили, чтобы к нам проникли европейские влияния. Лишь об этом и говорит проповедник из Эрзурума, однако его враги хотят обмануть султана, уверяя, что последователи ходжи Нусрета нападают на текке, в которых звучит музыка, и оскверняют гробницы праведников. И теперь они желают узнать – ведь я, как им известно, не питаю вражды к почтенному эрзурумцу, – не я ли убил Зарифа-эфенди.
До меня вдруг дошло, что слухи об этом уже давно ходят среди художников. Бездари, не знающие, что такое вдохновение, с большим удовольствием распространяют сплетню, что я, мол, подлый убийца. Мне захотелось треснуть этого дурака Кара чернильницей по черкесской его голове за то, что поверил наветам завистников.
Стараясь запомнить все, что видит, Кара внимательно оглядывает все, что есть в моей мастерской: длинные ножницы для бумаги; глиняные чашки с мышьяком; баночки с красками; яблоко, от которого я время от времени откусываю, когда работаю; джезву, что стоит на краю очага в глубине комнаты; кофейные чашки; подушки; свет, сочащийся в наполовину прикрытое занавеской окно; зеркало, которое я использую, чтобы проверить правильность композиции на листе; несколько моих верхних рубашек и красный пояс жены, лежащий у стены, словно овеществленный грех, – жена обронила его, когда в дверь постучали и она убегала в свою комнату.
Хотя свои мысли я от Кара и скрыл, рисунки и комнату, в которой живу, я не прячу от его дерзкого взгляда. Я знаю, всех вас удивит моя гордость, но что есть, то есть: я получаю больше всех денег, а значит, я – самый лучший художник! Ибо Аллах пожелал, чтобы рисунок был радостным, дабы всякий, кто умеет видеть, понял, что и весь мир тоже полон радости.
13. Меня называют Лейлек
Было время полуденного намаза. В дверь постучали, смотрю: Кара, знакомый детских лет. Мы обнялись. Он замерз, так что я поскорее провел его внутрь, даже не спросил, как он нашел мой дом. Оказывается, его послал Эниште – разузнать, почему пропал Зариф-эфенди и где тот может быть. Кроме того, Кара побывал и у мастера Османа. Кстати, говорит, у меня к тебе вопрос. Мастер Осман сказал, что подлинного художника от всех прочих отличает время – время художника. Что я об этом думаю? Слушайте.
Рисунок и время
Как всем известно, в давние времена художники Востока, например старые арабские мастера, смотрели на мир так же, как нынешние европейские гяуры, изображая его таким, каким он видится уличному бродяге, собаке, лавочнику или сельдерею у него на прилавке. Однако они не имели представления о приеме перспективы, которым так горделиво похваляются сегодня европейские мастера, а оттого мир на их рисунках был ограниченным и скучным – то есть именно миром собаки или сельдерея. Потом случилось одно событие, полностью изменившее мир нашего рисунка. Вот с этого события я и начну свой рассказ.
Три рассказа о рисунке и времени
Алиф
Триста пятьдесят лет назад, в тот год, когда холодным февральским днем монголы взяли и безжалостно разграбили Багдад, Ибн Шакир, несмотря на свой молодой возраст, уже был самым знаменитым и искусным каллиграфом не только среди арабов, но и во всем исламском мире. В прославленных на весь свет багдадских библиотеках хранилось двадцать два написанных его рукой тома – большинство из них списки Корана. Ибн Шакир верил, что эти книги доживут до конца света, и поэтому жил с ощущением глубины и бесконечности времени. За несколько дней монголы хана Хулагу разорвут, сожгут и побросают в воды Тигра все его прекрасные творения, о которых ныне мы ничего не знаем; но накануне взятия Багдада он неустанно и бесстрашно продолжал трудиться над последней своей книгой. Всю ночь он работал при дрожащем свете свечей, а в час утренней прохлады поднялся на минарет мечети Халифа, чтобы, повернувшись спиной к востоку, посмотреть на запад, на линию горизонта, ибо так на протяжении пяти столетий делали почитающие традиции и верящие в бессмертие книг арабские каллиграфы, чтобы дать отдохнуть глазам и спасти их от слепоты. Оттуда, с балкончика минарета, он видел, как творится то, что положит конец пятисотлетней книжной традиции. Он первым увидел, как в Багдад входят безжалостные воины Хулагу, – и остался стоять на минарете. Он видел, как грабят и громят город, как сотни тысяч человек погибают под ударами мечей, как убивают последнего халифа из династии, пять сотен лет правившей Багдадом, как насилуют женщин, как жгут библиотеки и бросают в Тигр десятки тысяч томов. Через два дня, когда над городом стоял смрад разлагающихся трупов и отовсюду раздавались крики умирающих, Ибн Шакир, глядя на воды Тигра, красные от чернил, смытых с брошенных в реку книг, подумал о том, что все эти столь красиво написанные книги, ушедшие в небытие, не смогли остановить ужасную резню и предотвратить разрушения, – и поклялся никогда больше не писать. Более того, ему захотелось выразить свою боль и рассказать об увиденном им бедствии с помощью искусства рисунка, которое он прежде презирал, считая возмущением против Аллаха. Взяв лист бумаги, с которой никогда не расставался, он нарисовал на нем то, что видел с минарета. Этому счастливому обстоятельству мы и обязаны тем, что после монгольского нашествия исламский рисунок обрел новую силу. В отличие от рисунков идолопоклонников и христиан мир в нем показан сверху, с непременной линией горизонта, таким, каким его видит Аллах; а в сердце художника живет искренняя боль. И вот еще что важно: после резни в Багдаде Ибн Шакир, движимый поселившимся в его душе стремлением рисовать, пешком отправился на север, туда, откуда пришли полчища монголов, и изучил манеру китайских мастеров. Так вот и стало ясно, что идея бесконечности времени, пять столетий жившая в сердцах арабских каллиграфов, должна воплотиться не в буквах, а в рисунке. И это воистину так, ибо книги рвут и уничтожают, но страницы с рисунками вставляют в другие книги. Они будут жить вечно, показывая, каков мир Аллаха.