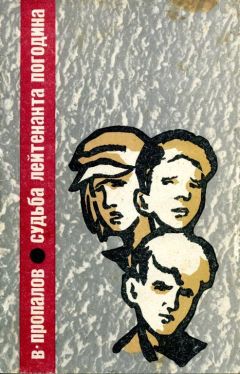Вера Коркина - Умный, наглый, сомоуверенный
Нюра возвращалась из города в сильной задумчивости, так ни на что не решившись. Едучи в автобусе, сетовала, что променяла полуголодную жизнь в Ейске на здешнее беспокойное, но обеспеченное житье с Сашкой. Сама напросилась, когда он тут осел. Привыкла к нему, как мать к ребенку, пусть и беспутному. А он в гору пошел, стал квартиры покупать и дачу ей строить, машину завел… Хорошо зажили, и даже когда отделился, Сашка ее не бросал.
Подходя к дому, тетка Нюра услыхала на соседском участке смех Марьи Гаврилюк и в досаде треснула дверцей калитки, а сердце так и сжалось.
Петрович стук услышал и прибежал, сам веселый. Сел за стол, слово за слово. «Ну что, — говорит, — Аннушка-голубушка, какое твое решение?», — и Нюра, хоть и с тяжестью в сердце, ответила — «положительное», а он подошел и ласково обнял, к себе прижал и расцеловал в обе щеки.
Но тут явилась с прогулки Юлька, и Петрович отскочил как ошпаренный. Юлька, увидев его, все из рук пороняла, а потом ушла в кухню и так стучала кастрюлями, что, видно, все бока им поотбивала, шалава. На Петровича зыркала, будто прирезать хотела, а когда тетка спросила, в чем дело, презрительно буркнула: «Женишок, что ли?» Тетка Нюра снова устыдилась, что собралась замуж — никакого сочувствия, точно она позорное дело затеяла. Да уж поздно было каяться, слово не воробей. Вздохнула и пошла квашню ставить.
Ире начало казаться, что она либо сходит с ума, либо ее преследуют. Причем не один человек, а разные. Первый был «глюк» на «вольво», за которым она гонялась, приняв за Алексея. Стекла были затемнены, по посадке плеч он напомнил мужа, но потом она разглядела его вблизи, когда выходил из машины, и хотя вздрогнула, но есть же очевидные вещи — цвет волос, например, вес. «Глюк» оказался худой, с ввалившимися щеками и седоватый. Сомнения оставались, потому что Ира не носила очков с диоптриями, а пока тянулась к сумке за футляром, «глюк» успевал исчезнуть. Ей, чтобы понять все, нужно было столкнуться с ним лицом к лицу, а этого не получалось.
Второй из преследователей был бугай огромного роста и мрачного вида, немолодой, заросший щетиной, с тяжелым восточным лицом, очень приметным. Этого она панически боялась.
Домработницей она была сыта по горло, особенно теперь, после «приключения», и отправила в деревню, пока не наступили холода, в сентябре там еще можно было жить. Эта плотоядная, вечно озабоченная девица начала ей подмигивать как своей.
Катя все еще находилась на грани, перелома не наступало. Авилов о ней постоянно спрашивал. Он не мог повлиять на происшедшие события, но знал, что что-то должно было произойти. Знал, но предупредил только Иру, а не Катю, для которой это оказалось страшным по последствиям. У нее в квартире стояли синие цветы, а синие цветы всегда дарит Саша.
Как поступать с тем, о чем рассказал официантик? Свалил все на второго. Что он помощник, что Катю они предупредили, чтоб не болтала лишнего, только и всего, а что было дальше, не знает, ушел домой. Она и сама видела, что ушел, но что произошло в промежутке? Заходил кто-то еще, пока она ездила за официантом, или он соврал? Катя скрытная, рассказывает мало, а знает, видимо, много из того, чем эти люди интересуются. И зачем такие девочки связываются с подонками? Жизнь идет, как идет, потом что-нибудь в ней надламывается, и дальше оказываешься среди убийц и бандитов, точно проваливаешься в болото.
Вчера наметился третий, уже дважды она видела возле дома долговязого парня с гниловатыми зубами, в последний раз ей показалось, что он зашел за ней в подъезд, и она сразу метнулась в лифт и быстро уехала. Господи прости, что за жизнь, никаких успокоительных не хватит.
Утром, выходя из подъезда, она снова наткнулась на «гниловатого», он двинулся прямо к ней и, наклонившись к уху, спросил:
— А Пушкин где, не знаешь?
— В смысле?
— Ну, Сергеич где? Ты вроде в его квартире хозяйничаешь.
— В больнице с переломами.
Парень присвистнул и мгновенно исчез, точно растворился в воздухе.
Авилов больше всего изводился от беспомощности. Целыми днями терзал телефонную трубку, нанял юриста для «Римека», отстреливался от налоговой и пожарников, которые набросились, как свора псов. Юриста нашел Левша, а больше никакого проку от него не было — у Абрамовичей в кардиоцентре умерла мать, и Левша окаменел от горя. Хрипуна на днях выписывали, он радовался, о смерти матери брат ему не сообщил и, главное, не давал зеркала. Лицо, по рассказам Левши, было ни на что не похоже, а левый глаз почти не видел. Нужны были операции, чтобы восстановить зрение.
Еще его мучила Катя, которой он не мог помочь, только передавал через Иру деньги, всякий раз отмечая в ее взгляде подозрение.
— Я угадал расклад, — оправдывался он перед ней. — А концовку не угадал, иначе бы этого не случилось.
И тут, к его превеликой радости, объявился Гонец. Просто пришел в больницу, издерганный, исхудавший, но довольный.
Гонца в дороге пасли. Но ему удалось разменяться фурой с приятелем. Он петлял, путал следы, сходил с маршрута, сильно потратился, опоздал к заказчику, но с ними расплатились четко, и деньги он привез.
— Я вот думаю, Пушкин, это кто-то свой. Никому ничего не говорил, всю дорогу думал, кто что знает. Знают только ты и Абрамычи, тебя отбрасываем, Лева в больнице, остается Левша. Подумай сам, зачем Левше ты, например? Он же старший, ясно? Старший брат, ему нужна бригада. Ты вот волк-одиночка, тебе никто не нужен, ты сам жизнь наладишь, а Левше нужны подчиненные. Я думаю, это он тебя закапывает.
— Проверим.
— Ты знаешь, что они с Левой не родные? Он у матери от другого мужа, от кавказской национальности, а фамилия того мужа была Убиев.
— Гонишь.
— Ну не Убиев. Хубиев, Нубиев, а какая разница…
— Ты не светись в городе, — предостерег Авилов. — Как будто тебя нет, езжай к сестре и сиди тихо. Единственное поручение — проведай Катю, может, если заговорит, узнаешь, кто ее ширанул. Позвонишь потом.
Гонец длинно засвистел:
— И Катю тоже? Ладно, Пушкин, не бери на себя. Жизнь такая. Я натрясся так, что решил все, последний раз. Ладно ты, всех собачишь, пихаешь в дело, но, в конце концов, мне решать, согласен я или нет, а посмотри на Левшу — он молчит, слово «насрать» не скажет, а ведь замочить может, рука не дрогнет.
Авилов помрачнел.
— Позаботься о Кате, — попросил он Гонца уже на пороге.
Левша ехал за братом. Они вышли из палаты, собрав вещи, и внизу, в холле, Лева увидел зеркало. Подошел. Когда сели в машину, Лева сел на заднее сиденье, где темней, долго молчал, потом сзади раздался звук, похожий на лай.
— Знаешь, куда мы едем? — перебил его брат. — Мы едем хоронить маму.
В машине наступила тишина.
— Зачем жить такому уроду? — спросил Лева.
— Надо делать операции. Я узнавал. Много, одну за одной. Заменять кожу в течение нескольких лет. А сейчас похороним маму, и никого, кроме нас, не останется.
— Это не лицо, а дерьмо. Кал собачий.
— Это поправимо. А маму не вернешь.
— Я один, и с этой рожей…
— Ты не один, ты со мной. Это я один, потому что ты никто. Тебя сейчас нет, надо делать заново. Три дня тебе на истерики. Похороним маму, потом ляжешь на операцию в микрохирургию глаза, потом в косметологию. А иначе, Лева, придется тебе остаться холостым. Девку ты себе еще купишь, а о жене забудь… И давай еще раз расскажи, что произошло.
— Опять?
— Опять.
— Хорошо. Сергей стал подкручивать ножки у столов. Винты расшатались. Пересадил меня за стол Пушкина. Когда я пересел, попросил показать трубку, покрутил в руках, сказал, что засорилась, надо почистить. Сходил с ней на кухню, вернулся, положил на стол. Потом притащил жратву и начал подкручивать ножки. Я поел, закурил — и все. Взорвалась трубка.
Левша знал, что взорвалась не трубка. Сработало устройство, вмонтированное в стол. Оно разлетелось в пыль вместе с кромкой стола и трубкой, когда на него сильно надавили телом.
Утром Сергей видел, как Левша «чинил» персональный стол Пушкина. Катя тоже видела, хотя появилась в зале мельком. С барменом не все в порядке. За каким дьяволом он пересадил Леву за этот стол, свободных не было?
На следующий день Левша отправился к Пушкину. У больницы брат-один насторожился: в сквере была припаркована черная девятка. Ему сказали, что у больного посетитель, он прошел в палату, накинув на плечи халат. Картина предстала странная — рядом с Пушкиным на постели лежала женщина, и они целовались. Левша крякнул, она поднялась, поправила волосы, юбку на узких бедрах и вышла, оглядев вошедшего с испугом.
— Я, кажется, додумался, — сообщил Пушкин. — Все наши беды — в «Старом рояле». Катя на все готова ради Сергея, и вдобавок я обнаружил у ней исключительный слух. Она слышит разговоры сквозь шум и музыку. Отделяет живой голос в чистом виде. Так что возьми Сергея на контроль. Катя, после того как мы с ней… ну, ты понимаешь, о чем я, на грани смерти, передоз. Кажется, не только она для Сергея на все готова, но и он взаимно тоже. Давай, Абрамыч, дело теперь твое, и оно заваливается.