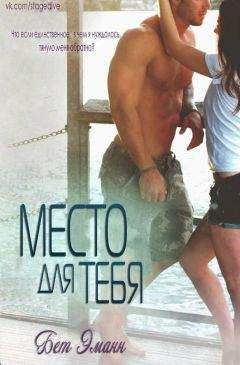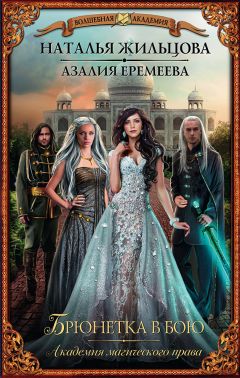Йен Пирс - Портрет
«Как вам?» - спросил я. Весь день я напряженно работал над картиной, созидая ее из набросков, которые делал весь месяц. Я убедил себя, что она хороша. Тщеславным я еще не был, но быстро обретал уверенность в себе. Кроме того, вы ее уже видели и не поскупились на сверхлестные комплименты. Я решил показать ее ей, чтобы поощрить ее. Показать ей, что такое настоящая картина. Ее мнение меня не интересовало, и ожидал я восхищения, благодарности, что ее принимают как свою, относятся к ней серьезно.
Эвелин подошла и посмотрела. Очень серьезно, сдвинув брови, но недолго. «Не очень», - сказала она затем.
«Прошу прощения?»
«Не очень хороша, верно? Слишком загромождена. Что это? Женщина на кухне? Она скорее выглядит так, словно забрела в лавку старьевщика. - Она помолчала, подумала. - Расчистите задний план, дайте взгляду сосредоточиться на самой женщине. Поза отличная, но у вас она пропадает зря. Где центр? В чем смысл? Если вы хотите, чтобы смотрящий понял, надо ему немножко помочь. Чего вы добиваетесь? Показать, какой вы умница? Насколько владеете перспективой и колоритом?»
«Вы такого мнения?»
«Да. И вы, без сомнения, полностью от него отмахнетесь. Но тогда зачем вы спрашивали?»
И ее глаза снова обратились на картину, затем на секунду вернулись ко мне. В них был смех, хотя лицо оставалось глубоко серьезным. Она прекрасно понимала, в какой мере позволяет себе лишнее, учитывая, что я был и старше нее, и опытнее. Она меня испытывала, проверяла, как я среагирую. Надуюсь ли чванством, оскорблюсь и начну читать ей лекцию о высоких достоинствах моего произведения? «Нет, вы ее не понимаете. Если поглядите…»
Но мое тщеславие иного характера. Легкие смешинки в ее глазах тронули меня. И я сам засмеялся. Нет, я не был так уж уверен, что она права, хотя нагромождение деталей всегда было моей слабостью. Но этим скрещением глаз мы подписали контракт. Сложное переплетение пресмыкания и лести, которое она наблюдала, когда я бывал с вами, ей было чуждо. И то, и другое она равно отвергала. А я их от нее и не хотел. С этой минуты она начала мне нравиться, хотя и несколько обескураживала.
Ведь этими замечаниями она бросила вызов вам, и мало #8209;помалу я начал понимать, насколько могут быть пусты ваши комплименты. Вы были со мной ленивы и, в конце #8209;то концов, не относились ко мне серьезно. Она правильно оценила картину, а вы нет. Вы не были непогрешимы.
Однако потом я лишь очень редко показывал ей свои картины. И уж во всяком случае, не те, которыми дорожил. Слишком страшился того, что она могла увидеть. Человек способен принять только определенную дозу критики. Мне и в голову не приходило, что она в такой же степени может опасаться моего мнения о ее полотнах.
Вы знаете, что это такое, когда кто #8209;то вам нравится? Вам, который никого не признает равным себе? Не думать об иерархии, не напрягаться, чтобы выглядеть лучше или более сильным, чем те, с кем вы? Не классифицировать кого #8209;то как друга или врага, как нижестоящего или патрона? Не завидовать и не быть предметом зависти? Это дружба. Я думал, это могла быть и любовь. Я все еще не умею их различать.
У меня были свои страсти и увлечения, хотя куда меньше, чем можно заключить, исходя из моей репутации, но во мне сохраняется достаточно шотландской церкви, чтобы питать подозрительность к власти плоти. Безусловно, я убедился, что ее магия всегда исчезает очень быстро: ни одна женщина, самая пышная, самая соблазнительная, не заинтересовывала меня надолго. Не так, как Эвелин - а меня подобным образом никогда к ней не влекло. Думаю, я хотел узнать ее, и чем больше моя дружба с вами сходила на нет, отягощалась условиями и сомнениями, тем больше я жаждал ее ничем не усложненной простоты. Я тоже гулял с ней по Лондону и Парижу, но это было совсем иное. Она не хотела учить и не читала лекций. Когда она смотрела на статую или здание, у нее не возникало желания классифицировать и раскладывать по полочкам. Не было ни категорического осуждения, ни расхваливания до небес на ваш лад. Она всегда старалась оценить стремление художника, каким бы жалким ни был результат. У нее даже находились добрые слова по адресу напыщенных старых козлов из Beaux #8209;Arts. A главное, она отправлялась в эти прогулки из чистого товарищества. Но в ней всегда было что #8209;то, что пряталось, что словно страшилось - я даже думал, словно чуралось, - моего присутствия, когда я стоял слишком близко к ней. И в то же время она была такой открытой. Как же так? Это бесило меня, ставило в тупик, и это, решил я, было симптомом любви.
На принятие решения ушло много времени. Я тянул, пока мы не вернулись в Англию, а потом еще и еще, пока моя карьера не пошла на подъем, но в конце концов весной тысяча девятьсот четвертого года я покончил с сомнениями и сделал ей предложение. Внезапно и совсем не в романтичном духе, должен сказать. Перед тем я некоторое время почти с ней не виделся. О цветах, подарках и прочем, что требуется для подготовки особой минуты, я даже не подумал - да и к лучшему, это был бы напрасный перевод денег. Она отказала мне наотрез. В ответ я получил только взгляд недоумения, изумления и, хуже того, гневности. Самая мысль ее оскорбила. Тогда я не мог понять почему. Никто больше не собирался сделать ей предложение, а подавляющее большинство женщин - так я всегда верил - по меньшей мере бывали польщены, когда им предлагали брак.
Полагаю, она была права: я едва ли представил себя в наилучшем свете и в то время не мог предложить практически ничего, кроме огромного эгоизма и маленького дохода. Я не умел ухаживать и не видел в этом никакой нужды. Я полагал, будто прямая откровенность говорит сама за себя, но не отдавал себе отчета, что англичане любят свои ритуалы и не доверяют прямоте, усматривая в ней некую лживость. Во всем есть подспудный смысл, не так ли? И чем прямолинейней речь, тем, следовательно, искуснее спрятан истинный смысл, тем больше требуется усилий, чтобы понять, что же было сказано на самом деле. Вот и все о моих попытках ухаживать, однако, если подумать, я сейчас подвел итог вашей философии как мудреца от модернизма. Ваша критика всего лишь благоразумие английской буржуазии в применении к холсту. Ничего нельзя оставлять без объяснений.
«Я никогда не выйду замуж, - сказала она, когда оправилась от шока и обрела дар речи. Она хотя бы не улыбнулась, это было бы уже слишком! - Я не гожусь для брака. Я не хочу иметь детей и думаю, что сумею сама позаботиться о своих нуждах, так что не вижу в нем никакого смысла. Нет мужчины, - продолжала она, - который мне нравился бы больше, чем вы, и ни одного, чье общество мне было бы приятнее. Но этого вряд ли достаточно. Нет, Генри Мак #8209;Альпин. Найдите другую. Я бы не смогла сделать вас счастливым, а вы не смогли бы сделать меня довольной таким существованием. Я уверена, любая другая подойдет вам куда больше меня».
Вот так. Она пресекла все попытки вернуться к этой теме и даже некоторое время избегала меня из опасения, что я намерен настаивать. Вот я и отправился бродить под дождем Горной Шотландии. Разумеется, моя гордость была уязвлена, а чья не была бы? Однако я обнаружил, что вспышки ревности, которые я испытывал, стоило мне увидеть ее в обществе другого мужчины - случаи очень редкие, - вскоре угасли. Прошло время, прежде чем мы возобновили нашу дружбу, прежде чем она почувствовала себя в безопасности рядом со мной и обрела уверенность, что я больше не бухнусь на колени, но затем все вернулось на круги своя. Чего она хотела, я не знал, но достаточно скоро смирился с тем, что, во всяком случае, не меня. И с легкостью убедил себя, что она совершенно мне не подходит. В конце #8209;то концов, она была крайне трудной в общении. Мрачная, замкнутая, со склонностью к донкихотству. Нет, мне не понадобилось много времени, чтобы убедить себя, что я счастливо избежал ужасной ошибки.
Кстати, не думайте, будто я не заметил презрения на вашем лице, пока говорил о моей любимой родине. Такие поэтические излияния о Шотландии в такой дали от нее! Если она столь чудесна, так что я делаю на островочке у побережья Бретани? При таком патриотизме почему отправился на юг вместо севера? Совершенно справедливо: наиболее восторженные шотландцы - это те, кто исполнен ностальгии. Шотландия душит меня: ландшафт дает ощущение свободы, культура угнетает. Я не могу писать там, потому что слишком живо чувствую неодобрение Бога, невозможность когда #8209;либо угодить Ему. Здесь я хотя бы убедил себя - Он более доступен убеждениям.
Вы видите, что мой стиль изменился? Ну конечно, вы же никогда ничего не упускаете. Вместе с кистями я отшвырнул и метод. Чему нас учили? Линия, линия, линия. И непосредственность восприятия образа. Две великие непримиримости, сгубившие поколение, а возможно, и не одно, английских художников. Мы ляпали комки красок, пытаясь зафиксировать то, что наблюдали всего мгновение, тут же полузабытое. Как показал нам Моне, так мы и работали. Ну что же, результатом явились несколько хорошеньких вещиц, хотя лично внутри меня некий маленький кальвинист все время поносил французское загнивание. О, конечно, конечно, попытайтесь поймать эту яркую вспышку света на воде между кувшинками, игру осеннего солнца на фасаде собора. Только, знаете ли, у нас в Шотландии солнце светит не так уж часто. Да и света маловато. У нас есть пятьдесят девять разных оттенков серости. Мы - нация en grisaille [10], и все Божье творение открыто нам как отличие пасмурного рассвета от недоброго шквалистого утра. Даже зелень холмов - серая, если изучить ее в должной мере. Вереск, заливы и озера - все в серости. Само солнце - серое солнце. Серость - не непосредственный цвет. Она не производит мгновенного впечатления. И так ее писать нельзя. Серый цвет надо изучать годами, поколениями, сказал бы я, прежде чем он откроет свои тайны. И тогда писать надо глубину, а не поверхность. Это равносильно тому, чтобы попросить Тьеполо писать свои засахаренные сласти, используя муниципальных советников Глазго вместо венецианской знати. Если вы попытаетесь, результат будет смехотворным. Даже и не пытайтесь, а лучше придумайте что #8209;то совсем другое.