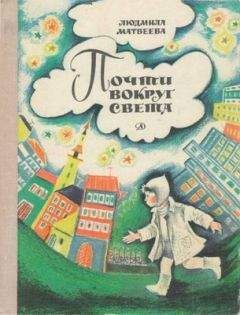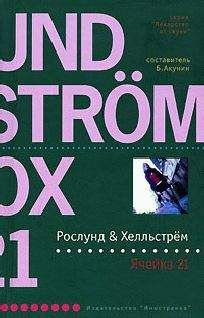Андерс Рослунд - Изверг
Свен и Эверт вошли в камеру. И тут же остановились. Очень странное помещение. На первый взгляд похоже на соседние. Окно, кровать, шкаф, несколько полок, умывальник, примерно восемь квадратных метров. Странность заключалась в другом. Подсвечники, камешки, деревяшки, ручки, окурки косяков, одежда, папки, батарейки, книги, блокноты — все разложено рядами. На полу, на застланной кровати, на подоконнике, на полках. Как на выставке. Два сантиметра от одного предмета до другого. Словно костяшки домино, непрерывный ровный ряд — сдвинь один предмет, и все нарушится.
Эверт порылся в кармане пиджака. Достал календарик, по краю размеченный как линейка. Шагнул к кровати, приложил календарик к выложенным в ряд камешкам. Два сантиметра. Двадцать миллиметров. Не больше и не меньше. Потом измерил расстояние от ручки до ручки на подоконнике. Два сантиметра. Двадцать миллиметров. На полках, между книгами, два сантиметра, окурок на полу в двадцати миллиметрах от батарейки, двадцать миллиметров от блокнота до пачки сигарет.
— Здесь всегда так?
Оскарссон кивнул:
— Да. Всегда. Вечером, когда разбирает постель, он укладывает камешки на полу в новый ряд. Измеряет расстояние. Утром, застелив кровать, поднимает камешки и снова укладывает на разглаженное покрывало, ровно в двадцати миллиметрах друг от друга.
Свен поднял несколько ручек. Самые обычные. Повертел несколько камешков. Самые обычные, один невзрачнее другого. Папки, блокноты. Ничего особенного. Папки пустые, без содержимого, блокноты нетронутые, ни одна страница не использована. Он обернулся к Оскарссону:
— Ни черта не понимаю.
— А что тут понимать?
— Не знаю. Ну хоть что-нибудь. Скажем, почему он облизывает детские ноги.
— С чего вы взяли, что это нужно понимать?
— Я хочу знать, где он. Куда направляется. Просто хочу схватить этого мерзавца, поехать домой, съесть торт и напиться.
— Сожалею. Вы никогда этого не поймете. Здесь нет рационального объяснения. Он и сам не знает, зачем облизывает мертвые ноги. Думаю, он понятия не имеет, зачем раскладывает вещи рядами, на расстоянии двух сантиметров друг от друга.
Эверт приставил большой палец к календарику, за черточкой, отмечающей два сантиметра. Поднес к лицу, и все невольно уставились на его большой палец и на двадцать миллиметров.
— Контроль. И больше ничего. Все они одинаковы. Наслаждаются насилием, потому что контроль у них в руках. Власть и контроль. Этот тип — крайность. Но именно так объясняются ряды камешков. Порядок. Структура. Контроль.
Он опустил календарик на кровать, позади камешков, потом резко взмахнул рукой, смел их на пол, один за другим.
— Мы же знаем. Он садист. Знаем, что от ощущения власти у таких, как Лунд, встает. Вот так оно и работает. Когда власть у него, когда беспомощен кто-то другой, когда он решает, навредить ли и как сильно. Вот почему у него встает. Вот почему он кончает перед связанными и избитыми девятилетками.
На подоконнике, где рядком лежали ручки, он поступил так же, резким движением смахнул все на пол.
— Кстати, фотографии в компьютере. Как они расположены?
Оскарссон долго смотрел на ручки, сваленные кучей на полу, без всякого порядка. Потом посмотрел на Эверта, с удивлением, будто не понял вопроса.
— Расположены? В каком смысле?
— Как он их сортировал? Я, черт возьми, не помню. Помню их лица, их глаза, их жуткое одиночество. Но расстояние между фотографиями не помню.
— Не знаю. Правда не знаю. Вообще об этом не думал. Но могу выяснить. Если, по-твоему, это важно.
— Да. Важно.
Оскарссон сел на кровать:
— До завтра потерпит?
— Нет.
— Хорошо, получишь сегодня. Когда закончим здесь. Материал у меня в кабинете.
Вместе они обыскали всю камеру. Ощупали и обнюхали каждый уголок пристанища, где Бернт Лунд обитал последние четыре года.
Никакой информации не нашлось.
У него не было плана.
Он сам не знал, куда направляется.
•
Фредрик открыл дверцу машины. По Стренгнесу он проехал с превышением скорости: зная, что на мосту Тустерёбру скорость ограничена до тридцати, гнал на семидесяти, но ведь обещал Мари, что в садике они будут к половине второго, а обещания надо выполнять.
Ей нужно в садик, потому что папе нужно работать. Ложь сегодня и ложь вчера. Ей нужно в садик, чтобы сохранить за собой место, чтобы поддержать имидж тяжко работающего папы, который писал и нуждался в уединении, чтобы рождать умные мысли. Но умные мысли не появлялись уже который месяц. За последние недели он не написал ни единого слова. Его будто судорогой свело, и он не знал, как от нее избавиться.
Вот почему Франс преследовал его по ночам, вот почему он вспоминал побои, вот почему не мог заниматься любовью с молодой красивой женщиной, которая прижималась к нему по утрам, а поневоле сравнивал ее с другой, запутываясь в отношениях, каких более не существовало, в отношениях с Агнес. Как будто работа, писание отнимали все время на размышления, вообще-то он всегда именно так и делал — работал, работал, работал, чтобы не думать и не чувствовать, в нем действовал мотор, который не останавливался ни на минуту, гнал его вперед, — находясь в движении, он уходил от прошлого.
Он припарковался на улице, возле детского сада. Это зона для разворота, и однажды его там оштрафовали, но ехать дальше и наобум искать место для парковки уже нет времени. Он помог Мари отстегнуть ремень безопасности, открыл заднюю дверцу. Они вышли. На улице еще жарче, чем в машине, солнце в эту пору дня стояло, наверное, в самой высокой точке, температура в тени градусов тридцать. Странное лето, оно наступило уже в начале мая и с тех пор все тянулось и тянулось, за целый месяц считанные облачные и дождливые дни.
Они направились к входной двери. Мари скакала впереди, то на одной ножке, то на двух, радовалась, там внутри ждали Микаэла, и Давид, и двадцать пять других детей, чьи имена ему бы следовало узнать, но они его не интересовали.
Они миновали скамейку рядом с закрытой калиткой. Там в ожидании сидел чей-то папаша, вроде бы знакомый, Фредрик легонько кивнул, хотя и не мог соотнести его лицо ни с кем из ребятишек.
Микаэла стояла у гардероба. Поцеловала его, спросила, скучал ли он по ней, когда проснулся. «Да, — ответил он, — скучал». А правда ли скучал? Он не знал. Ночью он скучал по ее мягкому телу; когда не мог заснуть, обычно прижимался к ней вплотную, заимствовал ее тепло, не так боялся, лежа рядом. А днем? Нечасто. Он посмотрел на нее.
Молодая. На шестнадцать лет моложе его. Слишком молодая. Слишком красивая. Будто он не годится. Будто недостоин. Надо быть таким же молодым. Таким же красивым. Кой черт вбил ему в голову такую чушь? Он в это верит? Эти мысли сидели в нем, в самой глубине. Как и побои, которые тоже там, в самой глубине. После развода он искал ее близости, она была в детском саду, а он приходил каждое утро и оставлял Мари, и однажды они немного прогулялись вместе, он рассказывал о боли и о тоске, а она слушала, они прогуливались снова и снова, и он продолжал жаловаться, а она продолжала слушать, и как-то раз они пошли к нему домой и занимались любовью чуть не всю вторую половину дня, меж тем как Мари и Давид носились по гостиной, за закрытой дверью.
Фредрик помог Мари переобуться. Снял с нее красные туфельки с металлическими пряжками, поставил на полку, помеченную слоном, ее знаком. У других были красные пожарные машины, и футболисты, и диснеевские герои, а она выбрала слона. Он дал ей сменку, белые матерчатые тапки.
— Не уходи, пап!
Она крепко вцепилась в его плечо.
— Но ты же хотела сюда? И Микаэла тут. И Давид.
— Останься. Ну пожалуйста, пап!
Он взял ее на руки, прижал к себе.
— Ну-ну, детка, ты ведь знаешь, папе надо работать.
Мари смотрела ему в глаза. Наморщив лоб. С умоляющим видом.
Он вздохнул.
— Ладно, ладно. Так и быть, останусь. Но совсем ненадолго.
Мари так и стояла рядом. Чмокнула своего слона. Обвела пальчиком его контуры, от ног вверх по спине, вдоль по хоботу. Фредрик молча повернулся к Микаэле, беспомощно пожал плечами. Так было с тех пор, как она начала работать, скоро уже четыре года, после ухода Агнес. Каждый день он надеялся, что это последний раз, что завтра он сможет оставить ее, сказать «пока» и уйти без угрызений совести.
— И надолго ты решил остаться сегодня?
Тут их мнения расходились. Микаэла считала, что он должен уходить, должен раз и навсегда показать, что хотя и уходит сразу, но после обеда все равно возвращается и забирает ее. Конечно, Мари обидится, будет плакать, но это пройдет, она привыкнет. Обычно Фредрик отвечал, что у нее самой нет детей, поэтому она не может понять родительские чувства.
— Минут пятнадцать. Как всегда.
Мари все слышала.
— Пусть папа останется. Со мной.