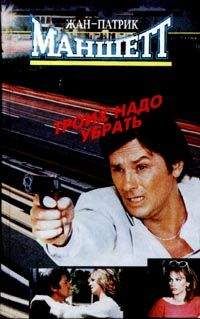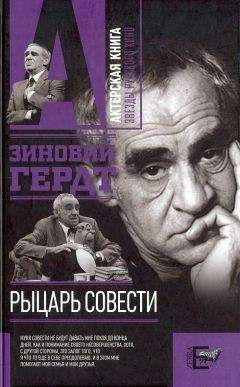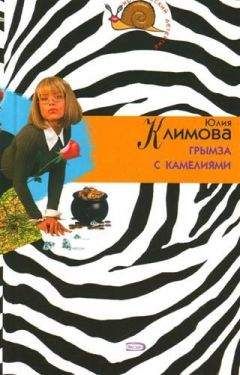Леонид Никитинский - Тайна совещательной комнаты
— Не усну, — сказал Палыч, — Устал страшно, перед глазами уже все плывет, а уснуть не усну, — Он поднял голову и добавил: — Сегодня в прениях выступал, скоро вердикт.
— Вердикт! — обрадованно прошептал Лудов, придвигаясь к нему, чтобы не услышал больше никто в камере. — Значит, скоро ты отсюда выйдешь. Можешь собираться уже.
— Какие у меня сборы! — сказал Палыч. — Да и не верю я. Кто это меня отсюда выпустит?
— Расскажи, — шепотом сказал Лудов. — Как прения? Сколько ты говорил?
— Сколько дали. Минут двадцать. Все рассказал. А что мне рассказывать? Ты же знаешь. Я их возил только, откуда я мог знать, чем они занимаются?
— А присяжные?
— Вроде слушали. Да что гадать. Скоро вердикт. Дожить бы.
— Доживешь, — сказал Лудов, поглядев на него внимательно. — Через несколько дней уйдешь и не вернешься. Тех двоих осудят, а тебя отпустят, скоро уже. Ты же только возил.
— Правда? — испуганно спросил Палыч, и стало заметно, что он на грани истерики. — Ну не могут же они написать: виновен? Правда же, не могут?
— Конечно. Ты чаю попей. Вот, холодный, но все равно попей. И постарайся уснуть, надо спать, а то у тебя крыша поедет, когда они тебя отпустят.
— Нет, не усну, — сказал Палыч, жадно, махом проглатывая кружку чая.
Лудов оглядел ряд шконок с дремлющими заключенными, смерил глазами расстояние до тех четверых, которые были заняты домино, наклонился к самому уху соседа и прошептал:
— Запомни, Палыч: этот Пономарев, убийство которого они мне вешают, должен был промелькнуть на Британских Вирджинских островах. Не знаю, куда потом, но мимо этих островов он проехать никак не мог, засветиться он там должен был обязательно где-то весной две тысячи третьего года. У него мог быть паспорт на имя Андрея Васильевича Пастухова. Теперь, наверное, другой, может, украинский, но некто Пастухов должен был мелькнуть весной две тысячи третьего года там, на Британских Вирджинских островах.
— Откуда ты знаешь? — ошарашенно, даже забыв про собственное дело, спросил сосед. — Ты мне этого никогда не говорил.
— Тихо! Я этого никому не говорил и не буду, наверное, говорить. Тебе первому, потому что у меня нет другого шанса сделать так, чтобы об этом хоть кто-то знал.
— А следователю? — спросил Палыч и тут же сам себе прикрыл ладошкой рот.
— Щас! — сказал Лудов. — И адвокатессе тоже нет. Она может искать Пономарева только за мои деньги, но у меня их уже нет, и связей у меня нет, я уже никто. Да и не хочу я ее в это втравливать. Я вообще не уверен, что хочу, чтобы кто-нибудь нашел Пономарева. Найдут и убьют и повесят это снова на меня. А если он будет болтать перед смертью, то и меня тоже достанут. Понял, Палыч?
— А зачем же тогда ты мне это говоришь? — испуганно спросил Палыч. — Что же я-то могу сделать? Я вообще таксист, бомбила. Мне это не надо!..
— Да не трясись, Палыч, — сказал Лудов, — Я на тебя и не рассчитываю. Просто я сейчас больше никому не верю. Я тебе ничего опасного из того, что знаю, не сказал. Запомни только: Андрей Пастухов, Британские Вирджинские острова, весна две тысячи третьего. На всякий случай. Я отсюда скоро не выйду. Даже если они меня оправдают по убийству, так на мне еще и контрабанда висит, они уж постарались. И уйду я в зону, ну не на двадцать, так хоть на восемь лет. Но если со мной что случится, то ты, Палыч, кому-ни-будь об этом расскажи. Ведь это не я его убил, это он меня подставил. Были и другие, но они мне были никто, а он был друг. И он меня сдал, поэтому ты уж запомни.
— Да не хочу я ничего про это знать! — вдруг истерически закричал Палыч на всю камеру, так что дремлющие зэки недовольно заворочались на шконках.
— Ну ладно, ладно. — Лудов примирительно похлопал его по плечу, — Не волнуйся, нам в полшестого на сборку. Я тоже пойду посплю.
Он ловко взобрался к себе и задернул занавеску.
Вторник, 27 июня, 11.00
Доставка подсудимого из изолятора, как обычно, задерживалась, и присяжные коротали время в своей комнате. Шахматист и Океанолог, который, как оказалось, играл хотя и не так азартно, но более вдумчиво, были уже в середине довольно запутанной партии, а Журналист и Фотолюбитель стояли возле бокового столика, за которым шло сражение, наблюдая за игрой. Старшина с отвращением читал газету, нервничая, так как одна из присяжных опаздывала. Медведь глядел в окно на кладбище, и было видно, что день ото дня ему становится лучше: его лицо разглаживалось. Анна Петровна вязала в кресле у другого окна, неуловимо перебирая спицами, зеленая нитка тянулась из большой хозяйственной сумки, которую она неизменно носила с собой, а синий клубок она сунула, чтобы не укатился, в стеклянный кувшин, позаимствованный для этого с полки. Складывая петельку к петельке, она чуть шевелила губами, наверное, считала, но лицо ее при этом становилось таким отстраненным, словно она про себя бормотала заклинания.
— Что это вы вяжете, Анна Петровна? — спросила Ри от нечего делать, но еще и потому, может быть, что выходное платье, в котором приемщица из химчистки приходила в суд, чем-то напоминало ей Алма-Ату и ее детство.
— Свитер, — буркнула приемщица неприветливо, но вязание и шептание, и все эти синие и зеленые петельки ей и самой развязывали язык, и она добавила, подняв глаза на Ри: — Свитер сыну. Он уже здоровый вырос у меня, а дурак.
— Он весь вот такой будет? В смысле, свитер?
— Нет, это спинка. А спереди будет узор, я еще не знаю какой, — разговорилась Анна Петровна, которой, на самом деле, вдруг захотелось рассказать про своего сына. — Он хочет вампира на груди, а я хочу, чтобы были рыбки. Как вы думаете, можно парню носить с рыбками?
— Ну… — серьезно задумалась Ри и собиралась уже порассуждать на эту тему, но в это время распахнулась дверь и влетела опоздавшая «Гурченко».
Майор сразу же отложил газету и отчитал ее деревянным голосом:
— Вы опять опоздали, Клавдия Ивановна! Ваше счастье, что конвойная машина сломалась, а то бы вас уже не было в коллегии.
— Но они опять всю ночь не давали мне спать! — закричала «Гурченко». — Как я могу исполнять обязанности федерального судьи, если они не дают мне спать?
Компания отреагировала вяло: видимо, сцена повторялась не в первый раз. Анна Петровна сбилась, и теперь ей пришлось распустить несколько петель, Шахматисты даже не оторвали глаз от доски, и только Хинди, которой, очевидно, еще не надоел этот спектакль, спросила с деланым любопытством:
— Кто, Клава? Кто не давал вам спать?
— Он! Мой бывший муж, скотина неблагодарная, — с готовностью сообщила «Гурченко». — Опять привел какую-то шалаву, представляете! Целую ночь пили портвейн в соседней комнате, музыку включали, а как я стала в стенку стучать, так он пригрозил меня убить! У меня истерики, надо судье сказать, пусть он звонит в милицию! Игорь Петрович, мы, что ли, зря избрали вас Старшиной?
— Я же уже звонил, — с раздражением сказал Зябликов. — Там всё знают: каждый вечер то вы трезвоните и жалуетесь, то муж рассказывает, что вы привели кавалера, распиваете водку, а потом топаете и скрипите диваном…
— Ах, значит, вы мне не верите? Потому что все вы, мужчины, кобели!
— Успокойтесь, Клава, выпейте чаю. — Хинди поставила перед ней чашку и повернулась к подошедший Ри: — Теннис-пенис, а это не твоя чашка. Возьми другую.
— Слушай, ты, подстилка больничная, — завелась Ри, — если ты еще раз…
Хинди, не дослушав, подпрыгнула и вцепилась в ненавистные, крашенные перьями волосы красавицы. Пытаясь освободиться, Ри случайным движением сбросила с нее дымчатые очки в розовой оправе и, топчась на месте, с хрустом раздавила их на полу.
— Мои очки! — закричала Хинди. — Сука!..
Все застыли, как в столбняке, и только опытный в таких делах Майор оттащил Хинди, как собачку, за затрещавшие в поясе джинсы.
— Вы что, вашу мать! — страшно закричал Старшина. — Этого тут мне не нужно!
— Давайте-ка ее сюда, — сказала Актриса, усаживая рядом с собой всхлипывающую Хинди, чье лицо, как у всякого близорукого человека, лишившегося очков, тут же стало беспомощным, — Ну, успокойся, детка. Мы купим новые очки, эти тебя все равно только портили. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Пойдем и купим, у меня как раз деньги есть.
— Пусть она теперь покупает! — запальчиво сказала Хинди, — Она же раздавила. Слышишь, ты!..
Впрочем, это она говорила уже без злобы, с одной обидой, как успокаивающийся на руках у матери ребенок, да и Ри уже не могла ее слышать: чтобы сохранить лицо, она надела наушники плеера и стала приплясывать у стола: «Тыц-тыц-тыц…»
— Подсудимого привезли, — сказала, заглядывая в комнату присяжных, секретарша Оля. Она очень дорожила своей должностью и не расставалась с ключами то ли от двери, то ли от сейфа, которые болтались у нее на брелке в виде зайца. — Пора выходить, — И добавила громко, играя брелком по пути через зал: — Прошу всех встать, суд идет!
А «все» это была одна только сиротливо поднявшаяся со своей скамейки мама Лудова, на которую не то с сочувствием, не то с осуждением смотрела, устраиваясь на стуле и уже кутаясь в шерстяной платок, присяжная Анна Петровна Мыскина. Мама этого убийцы была, ясное дело, из интеллигентов, но по-человечески ее все равно тоже было жалко.