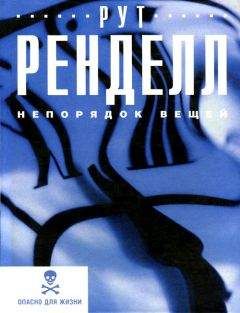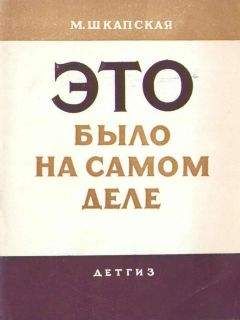Карло Шефер - Кельтский круг
В знак примирения Тойер похлопал своего подчиненного по коленке.
— Вероятно, вы еще не заметили, что у нас работает ваш сосед?
Бёгер холодно взглянула на Лейдига, неуверенно пристроившегося рядом с ними на ступеньке. Тойер оказался в середине, как разделительный барьер между двумя непримиримыми полюсами.
— Мне известно, что он пошел в полицию. Но здесь я его вижу в первый раз. Он доставляет своей мамочке много огорчений.
— Да, — раздраженно подтвердил Лейдиг. — Постоянно доставляю, потому что имею наглость жить на свете.
Посредник попробовал сменить тему:
— Скажите, фрау Бёгер, тот последний пациент мог рассчитывать, что застанет врача одного?
— Наши постоянные клиенты знали, что доктор иногда работает один, но этот пришел впервые. Господин Бенедикт Шерхард…
— Странное имя, — буркнул Тойер, — скорее всего, вымышленное. С другой стороны, судя по вашему описанию, доктор Танненбах с его добротой вполне мог принять еще одного пациента, если тот жаловался на острую боль…
— Как раз этого он никогда бы не сделал, — запротестовала Бёгер. — Ведь он всегда говорил: «Бёгерле (так он меня называл, когда мы были одни), Бёгерле, если я стану принимать всех желающих, то каждому в отдельности достанется меньше внимания!»
— А я думал, он называл вас по имени, — удивленно отозвался Тойер.
— Да, верно, по имени либо «Бёгерле». Как раз в последние годы… — Из глаз женщины опять потекли слезы.
— Потом мы это еще обсудим, — тихо сказал своему комиссару утомившийся начальник группы. — У покойного был своеобразный взгляд на свою профессию.
— Для острых случаев существует глазная клиника, — настаивала Бёгер. — Мы лишь лечили зрение и часто, как выражался доктор, сопровождали наших пациентов в путешествии в полную темноту.
— Минуточку… — Казалось, Лейдиг не слышал ее слов. — Как могло получиться, что больной записался к врачу не под своей фамилией? Ведь у всех пациентов есть страховая медицинская карточка с кодом!
— Достаточно украсть карточку у человека такого же пола и примерно твоего возраста. Или еще проще — заявить, что застрахован в частной компании. В таких случаях вообще не требуют удостоверение личности.
— Верно, — кивнул Лейдиг, — хотя вообще-то довольно странно, все-таки речь идет о деньгах… Впрочем, в регистрационном журнале отсутствует последняя страница. Вырвана.
Тойер задумался:
— Непонятно или, пожалуй, как раз понятно, ведь тогда…
Лейдиг мимикой дал понять своему начальнику, что тот в присутствии свидетельницы, если не возможной подозреваемой — лишь теперь мысль об этом пришла Тойеру в голову, — коснулся тайны следствия. Не так-то просто кого-то предостеречь с помощью глаз и бровей, тем более в темное время суток, однако Тойер, часто невероятно рассеянный и невнимательный, к собственному удивлению, заметил эти знаки и понял их смысл.
Теперь он вообще не знал, что делать со свидетельницей. Вернулись Штерн и Хафнер. Тойер вскочил:
— Да, фрау Бёгер, теперь ступайте, пожалуйста, с коллегой Штерном, он запишет ваши данные…
— Нет-нет, не стоит, я сам это сделаю, — вздохнул Лейдиг. — Ведь я почти все знаю. Лучше отвезу вас домой, все равно я тут больше не нужен…
— Завтра утром собираемся в шесть! — услышал Тойер собственный голос. Что это он? — Я переночую в управлении, у нас в кабинете, — солгал он, наслаждаясь безумной радостью, озарившей лица его последователей. — Я не успокоюсь и даже не разуюсь, пока мы не поймаем это чудовище.
— Боже мой! — тихо сказал Штерн.
— Вы совсем такой же, как мой шеф, — прощебетала старая дева Бёгер, потупилась и, расслабленно опираясь на руку Лейдига, позволила увести себя на улицу.
— Вы не забыли свое лекарство от почек? — преувеличенно громко крикнул ей вслед благородный гаупткомиссар.
Когда Лейдиг и Бёгер скрылись за дверью, Хафнер отключился.
— Он нашел шнапс у судебных медиков — те, видно, часто киряют, — устало пояснил Штерн. — Думаю, что сегодня они много выпили. Хафнер тоже. Бутылка была пустая.
Тойер взглянул на пьяного. Странное дело, он в первый раз ощутил сострадание.
— Почему он так старается себя угробить? — пробормотал он и осторожно выпрямил подчиненного, чтобы полицейским, все еще сновавшим в разные стороны, казалось, что легендарный коллега Хафнер устроил очередную легендарную табачную паузу, один из легендарных шестидесяти перекуров в день.
— Кровь на ключе принадлежит Рейстеру, а дальше они пока не продвинулись.
Тойер кивнул и как можно более внятно изложил Штерну, что им удалось выяснить. Вскоре подчиненный его перебил:
— История, на мой взгляд, запутанная. Пожалуй, я сегодня тоже останусь, вот только сообщу жене.
Шеф взглянул на него с некоторым отчаянием, но возражать не стал.
Усталый Шерер, пошатываясь, спустился к ним по лестнице.
— Можете устроиться в приемной окулиста, только аккуратней, не нагадьте по углам. В ближайшие дни там еще будут работать эксперты. Теперь мы осмотрим квартиру убитого. Если что-нибудь найдем, сообщим. Что с Хафнером? Наконец-то сдох?
Втроем они подняли спящего комиссара и положили на расстеленные на паркете газеты.
— Если у убийцы сыпалась сера из ушей, мы ее точно всю не собрали, так что особенно не шастайте по комнатам. И не хватайте никакие инструменты, ладно? Ну, привет.
Тойер заботливо накрыл непутевого подчиненного своим кожаным пиджаком.
Они сидели в затихшей квартире на стульях у двери процедурного кабинета, словно робеющие клиенты. Прежде здесь матери и сестры дожидались, пока маленькому Йонасу, Морицу, Леонардо, или как там зовут этих маленьких чудовищ, современных, разбирающихся в цифровой технике, наденут на косящий глаз свежую повязку веселенькой расцветки. Здесь болтали ногами дети, пока их матери подавляли первый приступ тошноты, поглядев сквозь процедурные очки со сменными стеклами. Тойеру взгрустнулось. Судя по всему, что он сегодня услышал, Танненбах, возможно, был темной лошадкой: наверняка не таким добродетельным, каким его описала безответно влюбленная в него старая дева, но, пожалуй, все же внимательным окулистом. Ему было тяжело сообщать пациентам дурные вести, пусть даже отслоение сетчатки могло в золотые для врачебного сословия годы вылиться в новую крышу для гаража.
Но для него не было ничего нового в новом убийстве, ведь известно, что мир — это бойня. Тогда откуда эта невыносимая тоска, разве он еще не ко всему привык?
Сейчас, в этот самый миг, где-то в мире, в каком-то из его уголков творилось что-нибудь еще более жуткое. Извращенные подонки, пересилив стеснение в груди, попирали остатки человечности. Перестать быть человеком значит перестать быть неудачником. А боль и страдания жертв свидетельствуют о том, что сами они теперь находятся по ту сторону боли. Убитый ребенок доказывает убийце, что сам-то он живет, живет дольше, чем его жертва, которая иначе могла бы его пережить.
Если так думать и говорить, впадаешь в банальность.
Все же сам Тойер никогда не понимал, что хорошего в том, чтобы переступать через страдание. На вечеринках, где он изредка бывал с Хорнунг, в ее академических кругах, он был диковинным зверем; все немного его побаивались, а может, даже восхищались его силой. Но коллеги Хорнунг отнюдь не из тех, кто, как в кукольном театре, охотится на крокодила.
— Мы не имеем права прекращать охоту на крокодилов, — прошептал он. — На этих бестий.
— Что? — удивленно спросил Штерн. — Каких бестий? О чем вы?
— Я про собак, — ответил Тойер и устыдился своих слов.
— Да, собак вы не любите, — засмеялся Штерн. — А ведь они лучшие друзья человека.
— Вот-вот, что за нелепое определение. Теперь ему удалось восстановить душевный покой, и он мог потихоньку грустить, как и прежде. Но вот с мыслительным процессом дело не ладилось. Мозг заклинило на одном: неправильно, неправильно вот так просто кого-то взять и устранить. Эта мысль обладала невыносимой очевидностью и вечной значимостью. И то, что очевиднейшие вещи звучат глупо, совершенно сбивало с толку могучего сыщика.
Без врача и пациентов медицинские приборы напоминали роботов. Тупые неодушевленные механизмы, которые всасывали пыль и мусор и опрокидывали мебель. Шум, доносившийся с Рорбахер-штрассе, заглушали желто-коричневые шторы.
Впрочем, Тойер не слышал никакого шума. Он обмяк, уронил голову на грудь и посапывал, бросив вызов безнадежности своего ремесла и всей людской тщете.
Томас Танненбах жил еще несколько мгновений, о чем свидетельствовали кровавые следы. Он доковылял до стены и сорвал с нее постер — вид Парижа с высоты птичьего полета. Чего мы только не делаем в последний миг, перед уходом из жизни.