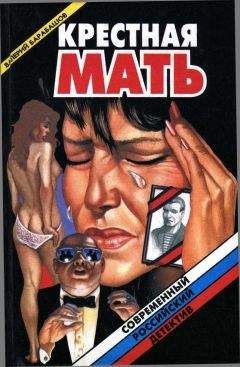Инна Бачинская - Свой ключ от чужой двери
Анна спустила меня на землю.
– Я думаю, вам нужно вернуться в фонд, – сказала она таким тоном, как будто все последнее время только и думала об этом.
– Боюсь, это невозможно, – пробормотал я. Меньше всего мне сейчас хотелось говорить о фонде.
– У мужчины должно быть дело, так он задуман природой. Я бы на вашем месте поговорила с людьми из правления…
Я почувствовал досаду – кто просит ее вмешиваться в мою личную жизнь? В минуту слабости я рассказал ей о себе и теперь уже жалел об этом. Навязывать людям свои проблемы – эгоизм, но и давать советы, когда не просят, – тоже эгоизм.
Видимо, все эти мысли отразились на моем лице, и она, чуткая, это заметила. Положила свою ладонь на мою руку и тихо сжала ее, извиняясь. Ее ладонь была теплой и невесомой, я чувствовал, как подрагивают ее пальцы от пульсации крови. Разумеется, я ее простил. И рассказал ей историю дома.
Анна внимала задумчиво. Временами казалось, что она забыла обо мне. Ела она очень деликатно, мало, медленно. Она вызывала мое любопытство несовременностью и… какой-то, я бы сказал, неуместностью в нашем мире. Даже ее одежда была другой. Она вышла к ужину в длинной черной юбке из тяжелой атласной ткани и кремовой блузе тонкого шелка, от которой не отказалась бы моя прабабка. Судя по фотографии из семейного альбома, она носила именно такие – с мелкими вертикальными складками на груди, воротником стойкой и рукавами, присобранными у локтя в неширокий манжет с перламутровой пуговкой, и прошвами пожелтевших, ручного плетения кружев – какой-нибудь валансьен – на плечах. Бледно-рыжие, как… луковичная шелуха (Именно! Шелуха бледно-рыжей луковицы!), волосы пучком на затылке, знакомые выбившиеся прядки на шее. В ней была незнакомая мне неброская эстетика. Ужин, который я приготовил, был слишком тяжеловесным для нее. Ей бы хватило двух-трех листиков салата, цветочной пыльцы и наперстка нектара. Рассматривая ее украдкой, я был озадачен, как дровосек, который познакомился в лесу с феей и привел ее к себе домой.
Рассказав о доме, я замолчал. О чем говорить с ней дальше, я просто не знал. Такого со мной еще не бывало. Не подумайте, что я оробел. Нет. Но странное оцепенение охватило меня, словно я попал в неизвестное физическое поле, лишившее меня способности мыслить. Я не мог оторвать от нее глаз. Мое жадное любопытство становилось просто неприличным. Наконец я заставил себя встряхнуться.
– Бывали раньше в наших краях? – выдавил я из себя после долгого раздумья.
– Нет, – ответила Анна, улыбаясь кончиками рта. – В вашем городе я впервые.
– У вас здесь друзья? – настаивал я.
Она задумалась, чуть двинула плечом и качнула головой:
– Нет.
Следующий вопрос повис в воздухе. Он рвался с кончика моего языка, но я придержал его.
– Я живу с сестрой, – сказала она, словно угадав мое нетерпение. – Сестра – художница. В прошлом. Сейчас она владелица художественной галереи. Прекрасный человек, яркая личность, умница, талантливый предприниматель, а я, в каком-то смысле, ее крест, – она слабо усмехнулась. – С ее точки зрения, я – неудачница, не приспособленная к жизни, непутевая и ленивая. Она учит меня жить и постоянно устраивает мою судьбу. Когда она становится чересчур активной, я бунтую и сбегаю из дома. Куда глаза глядят. – Она смотрит на меня с вопросом – веришь? Не веришь? – Так я оказалась в вашем городе. Просто взяла и сошла на незнакомой станции. Потом сидела в парке, обдумывая свою жизнь. А тут вы…
– И что? – Я улыбаюсь в ответ. – С бунтом?
– Ничего. Через пару дней возвращаюсь. Бунт подавлен. Сестра успокаивается, и мы сосуществуем дальше.
– А почему вы плакали?
– Вы заметили? – улыбается она. – Мужчине не понять, просто накатило «дамское» настроение, с нами это бывает… А вам никогда не хочется заплакать?
Я снисходительно хмыкаю – разумеется, нет. Мужчины не плачут. Надеюсь, я соврал убедительно. Заплакать мне хотелось, да еще как, после нашего со Стасом последнего разговора… но я в этом никогда не признаюсь даже себе!
– Вы тоже художница?
– Я? Нет! – уголки рта приподнимаются. – Нет.
Я молчу, ожидая продолжения.
– Вы приготовили прекрасный ужин, – говорит Анна, берет рукой ломтик жареной картошки и начинает откусывать от него крошечные кусочки. – Жарить картошку – забытое искусство. Одна моя знакомая, инженер, пошла работать в банк поваром – готовит еду для персонала. Их там десять человек. Получает триста долларов и вполне счастлива. Взяла и полностью поменяла свою жизнь. И сестра моя тоже. Я так не могу.
Я красноречиво молчу, и в молчании моем ожидание.
– Я – актриса, танцовщица. У меня был номер «Кукла», – говорит она, смирившись. – Я работала в театре-варьете. Теперь не работаю, театр закрылся. Помогаю сестре, занимаюсь всякой ерундой – перепиской, счетами, приглашениями…
Кукла! Конечно! Странное предчувствие, от которого запершило в горле, кольнуло меня. Предчувствие перемен, смут и потрясений. Хотя, казалось, куда уж больше… Механический человек на пружинах, с медленными скупыми движениями и застывшим выражением на лице. Статика, поразившая меня в самом начале нашего знакомства. Человек-обман. Человек снаружи, железо внутри.
Человек из плоти и крови всегда боялся механических братьев, в ужасе разбивал их, а конструктора сжигал на костре как пособника дьявола. Очарование-обман-опасность! Конечно, разве она могла быть кем-нибудь, кроме куклы? Учительницей, портнихой, продавщицей? Нет, нет и нет! Я был очарован. Она не обманула моих ожиданий. Механический человек-кукла Анна! Механическая женщина-кукла Анна.
– Хотите посмотреть?
Хотел ли я? Я только кивнул, полный нетерпения.
– Вот моя музыка, – она достала из сумочки компакт-диск и протянула мне.
…Она стояла, застыв, в глубине комнаты – левая округленная рука над головой, пальчики растопырены, правая вытянута вперед, голова склонена к плечу. Пустой взгляд устремлен в пространство, лицо неподвижно, как маска, уголки рта приподняты в бессмысленной улыбке. Прошла минута, другая. Она все стояла. Вдруг правая ее рука дрогнула, качнулась, и я почувствовал ледяную струйку вдоль хребта. Передо мной была кукла, а не живая женщина. Звучала неровная музыка – сентиментальный медленный вальс со сбитым ритмом, издаваемый стертым механизмом старинной шарманки. Чуть дернулся подбородок куклы, голова медленно, в три приема, повернулась к зрителю, преодолевая сопротивление колесиков, не желающих сцепляться зубцами. Правая рука толчками поднялась кверху, левая опустилась, голова склонилась неестественно низко, и я увидел белый ровный пробор в ее волосах. Тут музыка сбилась с ритма, барабан застрял, иголка заскребла по борозде. Несчастный механизм задергался, пытаясь освободиться. Туловище куклы накренилось вперед, и я невольно привстал со своего места, собираясь броситься на помощь. Кукла застыла в позе, не свойственной человеку, – локти разведены в стороны, голова свесилась на грудь, шея свернута вбок. Мне виден был ее рот, по-прежнему раздвинутый в бессмысленной улыбке. Иголке наконец удалось соскочить с заезженной бороздки, и мелодия, приволакивая ноги, двинулась дальше. Кукла выпрямилась так резко, что я вздрогнул. Руки ее качнулись по инерции раз-другой и замерли. Она начала танцевать, чуть запаздывая и не попадая в ритм – поводить плечами в такт незатейливой мелодии, двигать руками, как будто дирижировала невидимыми музыкантами, покачивать головой из стороны в сторону.
Натужно двигались ее члены, производя судорожные движения. Достигая заданного диапазона размаха, руки секунду-другую покачивались от напряжения, преодолев сопротивление больной ревматизмом механической начинки. Мне казалось, я слышу скрип разлаженных колесиков внутри Анны.
Не помню, сколько это продолжалось, равно как и не знаю, что это было… Танец, пластика, гимнастика… не знаю. Не знаю, было ли это искусством. Речь скорее шла о живом и неживом. Я вспомнил роман известного фантаста о механической женщине-убийце…
Музыка наконец смолкла. Некоторое время слышался шорох пленки, скрип, маленькие звучки, словно птица возилась в гнезде. Анна стояла неподвижно, округло расставив руки, словно обнимая невидимого партнера. Абсолютно неподвижно. Долгую минуту. В неярком свете низкой люстры. Справа от нее тянулось длинное, до пола окно, за которым была ночь. Слева – пустое пространство, и дальше мрак, в котором тонула слабо белеющая стена с темными прямоугольниками картин. Тишина звенела. Я не двигался с места и не сводил с Анны глаз.
Она изящно присела в реверансе, и я вздрогнул, просыпаясь, с тяжелой головой и сухостью во рту.
– Потрясающе! Я не думал, что такое возможно… Просто потрясающе. Вам непременно нужно выступать!
– В переходе метро, – сказала она, усаживаясь на свое место. – Больше негде.
– Не может быть!
– Поверьте мне на слово. Мой номер безнадежно устарел. Как чечетка, например. Вот если бы вы были директором театра, мы могли бы поставить ретро-программу… Но это долгий разговор. Знаете, давайте уберем со стола и… У вас есть чай? В вашем доме сервируют чай? – поправила она себя с улыбкой.