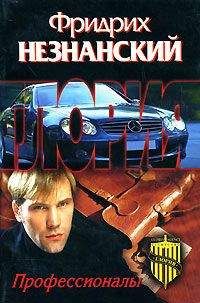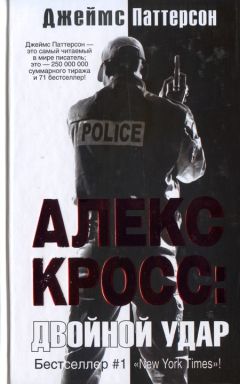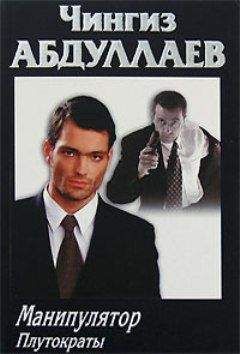Марсела Серрано - Пресвятая Дева Одиночества
— Не имел удовольствия.
— Потом мы объехали всю страну, на самом деле она огромная, и в Техасе я почувствовала, что устала. В одно прекрасное утро под дождем добралась до мексиканской границы — ее называют «большим шрамом», слышали? — и перешла на другую сторону.
— А вы, оказывается, тоже бродяга…
— В Мехико я сделала остановку… на десять лет, — улыбнулась она. — С этим городом у меня столько связано: первый, и единственный, ребенок, первая любовь, первая книга.
— Давайте по порядку: сначала ребенок…
— Висенте. Он родился в 1974 году, я была тогда совсем молоденькой. Малколм Лаури[21] говорил: «Мексиканские дети не плачут, потому что знают о трагической обреченности человека». Висенте был мексиканским ребенком. (Воцаряется молчание, взгляд писательницы устремляется куда-то вдаль, но тут же вновь становится привычно рассеянным.) Правда, отец его был американцем, он погиб в автомобильной катастрофе еще до рождения Висенте…
— Теперь первая любовь… хотя, возможно, вы влюблялись и до этого. Что значит для вас любовь, Кармен?
— Любовь? Большая выдумка! (Пауза.) Я тогда думала, что все мои предыдущие чувства должны называться по-другому, поскольку любовь — именно это, а не то. Когда я столкнулась с ней лицом к лицу, она, словно индийский муссон, смела мою волю, решимость, превратила все в хаос, лишила возможности действовать. Но сезон муссонов проходит… и наступает одиночество.
— А что случилось?
— Ничего, почти ничего… только то, что нужно, чтобы разрушить, сломать, разбить хрупкое сердце. Проблема мексиканцев в том, что они всегда женаты… (Она смеется.)
— Прежде чем перейти к книге, расскажите, чем вы занимались в Мехико.
— Я жила в южной части города в огромном доме, часть которого арендовал один писатель, — это был первый писатель, с которым я познакомилась, — и я снимала у него комнату. На жизнь зарабатывала тем, что делала украшения, а потом продавала их на площади Койоакан рядом с домом. Но в основном наслаждалась жизнью, это было мое главное занятие. Благодаря мексиканской вежливости я почувствовала себя человеком. Знаете, как определила Ригоберта Менчу[22] эту страну? Храм для тех, кто не сумел его найти.
— Поговорим о вашем первом романе «Мертвым нечего сказать».
— Он был опубликован в 1984 году. Это единственный мой роман, написанный по-английски. Я послала рукопись тете Джейн, вдруг удастся ее куда-нибудь пристроить, и вскоре напрочь о ней забыла. Много времени спустя я оказалась в Сакатекасе, совершенно одна, и решила позвонить ей, просто чтобы кто-то знал, что я жива. А она, оказывается, с нетерпением ждала моего звонка, хотела сообщить потрясающую новость: роман будет напечатан! Это был лучший подарок, который она мне сделала; если бы она не проявила настойчивости и не приложила руку к моей несчастной грамматике, ничего бы не вышло. Помню, как я, ликующая, шла по улице и, вглядываясь в лица прохожих, жалела их, потому что они не получили такого известия, какое получила я. И тут пошел дождь…
— Все ваши воспоминания очень образны.
— Поэтому я и пишу.
— Почему все-таки вы стали писательницей?
— Потому что должна была чем-то владеть, чем-то действительно своим.
— Итак… в Сакатекасе пошел дождь.
— Мне прислали договор, а после его подписания должны были перевести деньги. «Я вышлю тебе аванс, — сказала тетя, — чтобы ты устроила большой праздник». Получив перевод, я покинула свою захудалую комнатенку и переселилась в «Кинта Реаль», по-моему, самый красивый в стране отель, через который проходит старинный акведук. Когда-то здесь была арена для боя быков, и только хороший вкус и особое чувство архитектуры, присущие мексиканцам, помогли превратить это сооружение в отель. Представляете, вы ужинаете в ресторане, где в давние времена находились трибуны для зрителей!
— Но вам заплатили не так уж много…
— Не так уж много? Да ведь я была просто нищей! Теперь-то я понимаю, это был обычный аванс, который любое уважающее себя издательство выплачивает начинающему автору, но мне он показался целым состоянием… поэтому я и отправилась в «Кинта Реаль». Я никогда не останавливалась в хороших отелях, так что не стоит говорить, в каком я была восхищении. По три раза на дню залезала в огромную мраморную ванну с бело-голубыми занавесками, гуляла по красным галереям, без устали любовалась старыми камнями, переходами, по которым когда-то выгоняли быков на арену, и город в зависимости от времени суток менял свой облик.
— Вам не было одиноко?
— Было, но мне нравилось это ощущение. Оно и сейчас мне нравится.
— Почему?
— Потому что связывает меня с реальностью. Ненавижу надуманные чувства. К тому же я была не одна… я читала «Войну и мир». Помню, как меня раздражали эти женщины — не знаю, Толстой тому виной или нравы той эпохи, — которые чуть не на каждой странице утирают слезы… Тем не менее я часто возвращаюсь к Толстому; на мой взгляд, лучшие романы созданы в девятнадцатом веке.
— Страны, о которых вы говорили — Соединенные Штаты, Мексика, Индия, — обладают богатейшей, но совершенно разной культурой. Внутри вас все это как-то сочетается?
— Разве можно коротко ответить на такой вопрос? (Она молча смотрит на диктофон, размышляя.) Если только с помощью Октавио Паса[23], вы читали его «Отблески Индии»?
— Да, года два назад…
— Так вот, по его мнению, у Соединенных Штатов нет прошлого, эта страна родилась в нашу эпоху, и не важно, кто населял ее раньше. Поэтому одна моя часть прекрасно себя там чувствует. Но другая моя часть оглядывается назад, в прошлое, и обнаруживает его где-то между Индией и Мексикой— странами, которые стремятся к модернизации и в запале критикуют собственную историю, в то же время защищая свою неевропейскую культуру, живую и необычайно богатую. Обе эти страны, гораздо более похожие друг на друга, чем обычно думают, не могут преодолеть одно и то же противоречие: они считают прошлое препятствием, одновременно превознося его и желая спасти. Полный разрыв и сохранение— как это совместить? В таком же положении нахожусь и я.
— Что вас тревожит или пугает в настоящий момент?
— Что рая нет, что нет места, где можно избежать крушения.
— Что вы имеете в виду?
— С течением времени благоразумие теряет для меня свою ценность, поскольку мир становится все враждебнее и с помощью здравого смысла его не победишь… Не знаю, может, это происходит со всеми? С каждым днем мне все больше по вкусу одиночество, покой. Океан стал внушать мне ужас, я бы не хотела опять его пересекать. Терминалы аэропортов кажутся все более огромными, инструкции — все более непонятными, я сажусь не в тот автобус, не могу опустить в автомат нужные монеты… теряюсь в знакомых городах… Вместо того чтобы двигаться вперед, учиться на собственном опыте, я откатываюсь назад, а мир вокруг становится все необъятнее.
— Странно, что это происходит именно с вами и что вы об этом рассказываете…
— Помните, Гете говорил о явных секретах? Я понимаю, что он имел в виду: когда секреты открыты для всех, никто ими не интересуется.
— И какой же выход?
— Извините, что опять обращаюсь к цитатам, но в данном случае это оправданно. Йозеф Рот[24] в «Отеле „Савой“» говорит: «Женщины совершают глупости не из-за легкомыслия или неосмотрительности, как мы, а когда очень несчастны». Так что я намереваюсь совершить какую-нибудь глупость. (Она улыбается.)
— Какой вы видите себя сегодня?
— Не какой, а кем — принцессой в башне вроде тех, что венчают все дворцы в Индии. Я наслаждаюсь видом, который открывается с высоты, я защищена со всех четырех сторон, но в то же время я так или иначе — пленница. Как Кумари.
Кое-как устроившись в неудобном кресле экономического класса рядом с пассажиром, который во сне беззастенчиво наваливался на меня, я с грустью констатировала, что самой уснуть не удастся. Самолет был полон, и если я знала, куда несет всех этих людей, то вот зачем, понять было невозможно. Мне предстоит трудная задача, требующая трезвого взгляда на вещи, и начинать нужно с себя. Я — обычная женщина, типичная представительница чилийского среднего класса, который в зависимости от перепадов экономики то распускает, то затягивает пояс; не считая моей семьи и нескольких друзей, я никогда никому не была нужна, как и большинство— едва ли не девяносто девять процентов— жителей планеты. Я ни разу не удостоилась чести увидеть свое имя напечатанным. Во времена утопий я мечтала выражать чаяния обездоленных и изо всех сил старалась смотреть на мир их глазами.