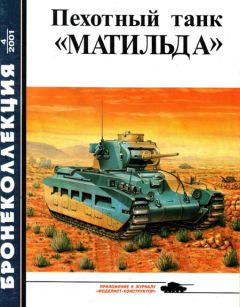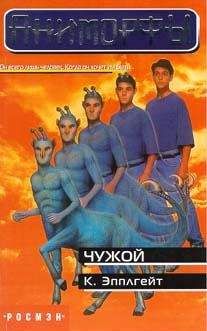Матильде Асенси - Последний Катон
— Откуда вы все это знаете? — снова загремел кипящий от ярости капитан, стоявший уже в нескольких сантиметрах от меня.
— Что, вы с монсеньором Турнье думали, что я идиотка? — энергично возразила я. — Думали, что, если вы не дадите мне информацию или будете держать меня в стороне, вы сможете воспользоваться только той частью меня, которая вас интересует? Да ну, капитан! Я дважды получала премию Гетти за палеографические исследования!
Швейцарец на несколько бесконечных секунд застыл, не сводя с меня глаз. Я догадывалась, что в его голове сменялись разные чувства: злость, бессилие, ярость, инстинкты убийцы… и, наконец, лучик благоразумия.
Потом вдруг в абсолютной тишине он начал собирать фотографии Аби-Руджа, срывать с двери листы, составлявшие силуэт эфиопа, прятать в свою кожаную папку заметки, наброски, тетради и рисунки. Наконец он выключил компьютер и, не попрощавшись, не сказав ни слова, даже не оглянувшись, вышел из моей лаборатории и захлопнул дверь так, что задрожали стены.
В тот самый момент я поняла, что сама вырыла себе могилу.
Как объяснить мои чувства, когда, поднеся на следующее утро мое удостоверение к считывающему устройству, я увидела, как на настенной панели замигала красная лампочка, и услышала, как завыла похожая на пожарную сирена, из-за которой все находившиеся в прихожей тайного архива обернулись, глядя на меня, как на преступницу?.. Нет, этого не объяснишь. Это самое унизительное чувство, которое я когда-либо испытывала. Двое одетых в штатское охранников в черных очках и в наушниках с проводком, как у телефона, выросли передо мной, прежде чем я успела взмолиться Богу о том, чтобы мне провалиться сквозь землю, и очень вежливо попросили меня пройти с ними. Я до боли сжала веки; нет, это не может происходить на самом деле, это явно жуткий сон, и я вот-вот проснусь. Но любезный голос одного из этих мужчин вернул меня к действительности: я должна была идти с ними в кабинет префекта, преподобного отца Рамондино.
Я чуть не сказала им, что не стоит, чтобы они меня отпустили, что я уже знаю, что мне скажет преподобный отец. Но я смолчала и послушно пошла за ними ни жива ни мертва, зная, что мои годы работы в Ватикане подошли к концу.
Не стоит из болезненного интереса вспоминать произошедшее в кабинете префекта. У нас была очень корректная и вежливая беседа, в ходе которой он официально сообщил мне, что мой контракт расторгнут (мне, конечно, до последней лиры выплатят все, что в таких случаях положено законом) и что мое обязательство хранить молчание обо всем, связанном с архивом и с библиотекой, будет действительно до последнего дня моей жизни. Он также сказал мне, что он очень доволен моей работой и от души надеется, что я найду другое занятие, соответствующее моим многочисленным знаниям и умениям, и, наконец, с силой упершись кулаком в стол, он сообщил мне, что, если когда-нибудь мне взбредет в голову сделать малейшее упоминание о деле эфиопа, меня ждет суровое наказание и даже отлучение от церкви.
Он простился со мной крепким рукопожатием в дверях своего кабинета, где меня терпеливо поджидал доктор Уильям Бейкер, секретарь архива, со среднего размера коробкой в руках.
— Ваши вещи, доктор, — пренебрежительно заявил он.
Кажется, именно тогда я поняла, что стала изгоем, кем-то, кого уже не хотят видеть в Ватикане. Меня приговорили к остракизму, и я должна была покинуть Город.
— Будьте любезны, ваш ключ и ваше удостоверение, — произнес в довершение Бейкер, передавая мне коробку с моими скудными личными принадлежностями. Картонка была аккуратно заклеена широкой клейкой лентой. Я подумала, положили ли туда красную руку с дня рождения Изабеллы.
Но это было еще не все; не все и не самое худшее. Два дня спустя главная настоятельница моего ордена потребовала моего присутствия в центральном офисе. Конечно, обремененная тысячей обязанностей, меня приняла не она, а ее заместительница, сестра Джулия Саролли, которая довела до моего сведения, что я должна покинуть квартиру и общину на площади Васкетте, поскольку меня срочно направляют в провинцию Коннот в Ирландии, где я должна буду заведовать архивами и библиотеками нескольких древних монастырей этого района. Там я найду, добавила сестра Саролли, так необходимый мне духовный покой. Я должна была прибыть в Коннот на следующей неделе, между понедельником, 27-го, и пятницей, 31 марта. На когда мне заказать билеты? Возможно, я хотела заехать сначала на Сицилию, чтобы попрощаться с семьей… Я качнула головой, отказываясь от этого предложения; я настолько пала духом, что не могла сказать ни слова.
Я понятия не имела, как объяснить это матери. Мне было ее ужасно жаль, она всегда так гордилась своей дочкой Оттавией. Она будет очень переживать, и я чувствовала себя виноватой перед ней за эту боль. А что скажет Пьерантонио? А Джакома? Единственным преимуществом в этом изгнании было то, что я буду ближе к своей сестре Лючии, она в Лондоне, и что она поможет мне пережить этот провал. Потому что, как ни крути, это был именно провал, а я была просто неудачницей. Я подвела свою семью. Они, конечно, не станут меня меньше любить из-за того, что вместо Ватикана я буду работать в далеком затерянном уголке Ирландии, но я знала, что все мои братья и сестры и в особенности моя мать будут смотреть на меня уже по-другому. Бедная мама, она так гордилась мною и Пьерантонио! Теперь ей придется забыть об Оттавии и говорить только о Пьерантонио.
Поскольку была пятница Великого Поста, в тот вечер мы с Фермой, Маргеритой и Валерией отправились в базилику Святого Иоанна Латеранского, чтобы произнести молитву Крестного Пути и принять участие в богослужении. Между этими пропитанными историей стенами я почувствовала, что растворяюсь, уменьшаюсь, и сказала Богу, что принимаю наказание за мой неуемный грех высокомерия. Я все это заслужила: я думала, что обречена высшей властью за то, что ловко сумела раздобыть что-то, что мне не давали, и, руководствуясь этим, достигла своей цели. Теперь, сломленная и побежденная, я смиренно молила о прощении, раскаивалась в содеянном, сознавая, что это раскаяние приходит слишком поздно и что оно уже не сможет изменить мою кару. Я ощутила страх Божий и приняла этот Крестный Путь как еще одно доказательство божественной милости, которая позволяла мне разделить с Иисусом Христом боль и мучения крестных страстей.
В довершение всех моих бед ранним утром, словно отозвавшись на пожиравшую меня изнутри боль, Этна, вулкан, на который мы, сицилийцы, всегда смотрим с тревогой и с ужасом, потому что он наш и потому что мы его хорошо знаем, устроила потрясающее извержение: до восхода с ее склонов схлынуло море лавы, в то время как ее кратер извергал огонь и пепел на высоту 3200 метров. Палермо, к счастью, находится довольно далеко от вулкана, но это не спасает город от последствий извержения: землетрясений, перебоев с электроэнергией, с водой, проблем на автотрассах… Сильно беспокоясь, я позвонила домой: там никто не спал, и все прислушивались к новостям по радио и местному телевизору. Слава Богу, успокоили меня, никто не пострадал, и ситуация под контролем. В этот момент я должна была сказать им, что покидаю Рим и Ватикан и улетаю в Ирландию, но я не решилась; так велик был мой страх перед их реакцией и разочарованием. Когда я приеду в Коннот и устроюсь там, я что-нибудь придумаю, чтобы убедить их в том, что изменения эти только на пользу и что я в восторге от своего нового назначения.
В следующий четверг в час дня я села на самолет, который должен был увезти меня в изгнание. Только Маргерита смогла прийти со мной попрощаться. Она грустно поцеловала меня в обе щеки и настоятельно просила не противиться воле Божьей, постараться с радостью приспособиться к новому положению и бороться со своим сильным нравом. Это был самый печальный и тоскливый полет в моей жизни. Я не захотела смотреть фильм, не попробовала ни кусочка поставленной передо мной затянутой пластиковой пленкой еды, и единственным моим навязчивым занятием было кропотливое складывание слов, которые я скажу сестре Лючии, когда ей позвоню, и которые я должна буду сказать своей семье, когда буду в состоянии это сделать.
Почти два с половиной часа спустя, в пять вечера по ирландскому времени, мы наконец приземлились в аэропорту Дублина, и уставшие, раздраженные пассажиры кучей зашли в здание международного терминала, чтобы забрать багаж с ленты транспортера. Я сильно сжала свой огромный чемодан, глубоко вздохнула и направилась к выходу, отыскивая взглядом сестер, которые должны были меня встречать.
В этой стране мне наверняка доведется провести ближайшие двадцать — тридцать лет моей жизни, и, быть может, без всякой уверенности говорила я себе, если мне немного повезет, я смогу адаптироваться и быть счастливой. Такие у меня были глупые мысли, и, слыша их, я знала, что лгу, что обманываю саму себя: эта страна — моя могила, конец моих профессиональных амбиций, тупик для моих проектов и исследований. Зачем я столько училась? Зачем годами старалась и получала премию за премией, степень за степенью, если теперь все это мне будет ни к чему в этой несчастной деревне в провинции Коннот, где меня похоронят? Я с болью посмотрела на все, что меня окружало, спрашивая себя, сколько времени я смогу вынести такое постыдное положение, и с черной тоской вспомнила, что не нужно заставлять ждать моих ирландских сестер.