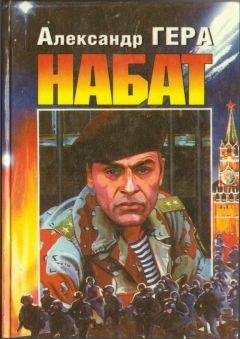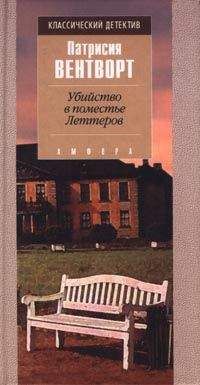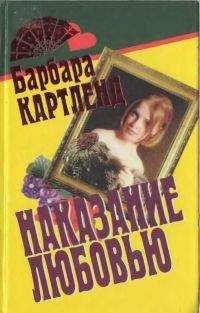Николай Псурцев - Голодные прираки
Рома сжевал последнюю макаронину. Утер салфеткой губы. Поблагодарил Нику. Поднялся. И тут мальчик Мика жалобно попросил, решившись, чтобы дядя Рома рассказал ему еще что-нибудь про охоту в Африке, про тот самый «сарафан» или «сафаран». (Мне показалось, что в глазах у Мики промелькнула усмешка, когда он говорил про «сарафан».) Я сказал, что дяде Роме необходимо сейчас отдохнуть. Он устал. Он плохо себя чувствует. Он болеет. И Рома тотчас возразил, что нисколько не устал и уж тем более совершенно не болеет и поэтому он с удовольствием расскажет мальчику Мике об охоте в Африке.
И Рома поведал, и юному, и нам всем, кто был в гостиной, как он на веревочные силки ловил взбесившихся слонов, как вскакивал верхом на носорогов и гонял их по саванне до тех пор, пока они не валились с ног от усталости, и тогда он делал с ними все, что хотел (я чуть было не спросил Рому, а что же все-таки он, Рома, с ними делал, но не стал уточнять, потому как подумал, посмотрев на Рому, что ничего дурного и срамного он, конечно, с носорогами не делал), как ловил ядовитых змей, приманивая их своим открытым ртом, – змеи полагали, что Ромин рот это уютная норка и с радостью ныряли туда, а Рома в мгновение, хрясть, и откусывал глупым змеюкам головы, как, надев на себя шкуру самки гепарда, подкрадывался к гепарду-самцу и в момент, когда тот подходил ближе, привлеченный запахом и видом шкуры, набрасывался на гепарда, заламывал ему лапы за спину и надевал на доверчивого стальные наручи… то бишь стальные налапники, как, летая над саванной на легком и бесшумном планере, обыкновенным сачком ловил редких птиц, как однажды стал вожаком обезьяньей стаи… С каждым рассказанным эпизодом из своей африканской жизни Рома становился все уверенней, а голос его звучал все тверже. Рома размахивал руками, топал ногами, вертел головой, крутил плечами, а в самых напряженных местах грохал огромным кулаком по столу. Смеялся и плакал, жил…
Мальчик выбрал удобный момент – сумел втиснуться в короткую паузу – и спросил Рому, а что же он потом делал с поверженными животными. И Рома ответил, что съедал их всех к чертовой матери, всех, на хрен, чтоб не повадно было. (Но что не повадно, не уточнил). И мальчик Мика опять спросил. Он спросил так: «Что самое страшное для охотника – убивать животных, есть их или снимать с них, теплых еще, шкуры?» Вопрос застал Рому врасплох. Он повернул свои очки к мальчику и некоторое время молча изучал его. Потом сказал негромко, что страшнее всего, конечно же, снимать шкуру, вынимать внутренности – не неприятнее, а именно страшнее. И мальчик тогда попросил. Он попросил, а пусть дядя Рома покажет, как он снимал шкуры с убитых животных. «Ты очень этого хочешь?» – глядя на свои руки, лежащие на столе, поинтересовался Рома. «Очень», – просто ответил мальчик Мика. И Рома тогда взял со стола большой мясницкий нож, которым мы только что резали датскую колбасу, умело и привычно устроил его у себя на ладони, повернулся к мальчику и, слабо шевельнув жесткими напряженными губами, проговорил: «Обычно я начинаю с горла». И стремительно вдруг вытянул руку с ножом в сторону мальчика и приставил острие ножа Мике к горлу, и улыбнулся, увидев капельку крови на шее мальчика… «А затем я делаю так», – сказал Рома и быстро провел острием ножа вдоль тела мальчика, от горла до пояса. Разрезанная рубашка обнажила белое тело. От шеи до пупка тянулась алая царапина – кровоточа чуть. Мастером слыл Рома и был таковым и не забыл, как я понял, своего мастерства – явно тренирован был.
Мальчик Мика без испуга, не моргая, напрягшись, смотрел на Рому – прямо, – не отводя глаз, точно в его поблескивающие очки, не шевелясь. Даже на рубашку и на тело под ней свое не взглянул – за ненадобностью. Рома не долго взгляд Мики выдержал, засмеялся вдруг деланно, неестественно громко, встал резко и шумно, едва стол не опрокинув, оттолкнув, с места его сдвинув, стул ногой от себя отшиб назад, а рукой правой нож отшвырнул дерганным движением в сторону и крупными шагами очень скоро двинулся к выходу из кухни, дверь закрытую ногой пнул, почти не остановившись, пошел, пошел, сразу же, не мешкая, вниз, в подвал, в подземный гараж, – не наверх, не в спальню. «Бежать захотел? Уехать решился?) Ника поднялась, направилась вслед за Ромой. «Я посмотрю», – сказала. Я пожал плечами. Не спеша допил чай. На мальчика Мику не смотрел. Чтобы не смущать мальчика Мику. Но через минуту все же не выдержал, взглянул. Теперь глаза его не были сухими. Я заметил в них слезы. Мальчик плакал бесшумно. Не морщился, не кривился, не всхлипывал. Только лишь глаза выдавали то, что он плачет. Слезы блестели на ресницах, темнели на щеках, текли по подбородку. Я вытер мальчику лицо, грубо, сильно. Пальцами выдавил остатки слез из глаз. Мальчик не сопротивлялся. Я взял его за подбородок, повернул его лицо к себе, посмотрел Мике в глаза, сказал, улыбнувшись: «Ты станешь великим, малыш. Поверь мне».
Вернулась Ника, сообщила: «В гараже подсобка есть. Маленькая. Три на три. Камера. Он там. Изнутри заперся. Бормочет без остановки что-то. Я не поняла. – Ника откинула волосы со лба назад, добавила тихо: – Он сумасшедший». Я не услышал осуждения в ее голосе. Хотел услышать. Но не услышал. «Мальчику пора спать», – сказал я. «Да, да, конечно, – кивнула Ника. – Он ляжет в комнате рядом с нашей спальней. Стенка в стенку».
Мальчик деловито разделся. Забрался под одеяло. Выходя из его комнаты, уже на пороге, я предупредил: «Если что, кричи. Громко» – «А что, если что?» – резонно спросил мальчик. «Ну, мало ли, – я усмехнулся. – Спи».
Я снял с Ники платье, не спеша, предвкушая удовольствие. Целовал Нику, пока снимал платье, везде, где мог. Когда платье Ники оказалось на полу, я сбросил с себя рубашку, кроссовки, джинсы, трусы. Не забыл снять и носки.
Это чрезвычайно важно – не забыть снять носки. Осторожно и нежно уложил Нику в постель. Ласково шепча ей на ухо самые сладкие непристойности. (В постели любые непристойности обретают, как ни странно, совершенно иное значение – они становятся желанными, необходимыми и сладкими… Да, чуть не забыл, и еще они становятся целомудренными.) Я приспустил с Ники трусики, коснулся языком мягких губ ее влагалища. Но во второй раз Ника не позволила мне коснуться себя, оттолкнула мою голову двумя руками. «Прости, – сказала громким шепотом. – Я не могу. Пожалуйста, потом. Хорошо?» – «Хорошо, – сказал я. А что я мог еще сказать? – Хорошо». Я лег на спину, заложил руки за голову. Закрыл глаза. Я решил вспомнить весь сегодняшний день. Подробно. Концентрируясь на деталях. Через минуту, через две понял, что мне что-то мешает. Ну, конечно же, мне мешала Ника. Поток чувств, идущий от нее, был необычайно силен. Я мог бы, наверное, заставить сейчас себя поставить с помощью волевого усилия защитный барьер между собой и Никой, мне казалось, что я уже немного научился это делать, но тем не менее делать этого не стал. Я хотел как можно больше знать о Нике, и совершенно не имелось у меня страха от того, как в случае с Ромой, допустим, что я что-то эдакое растакое о Нике могу разведать, что меня от нее отвратило бы, а самого меня в печаль-тоску загнало бы, и отрезало бы все возможные и невозможные пути к отступлению. Или наоборот. Да, так сложилось уже за эти дни, короткие, но заметные, что я от Ники ничего не хочу, мне надо, чтобы только она была, и всего лишь, и чтобы только позволяла на себя смотреть и себя слушать и, если повезет, заниматься с собой любовью, а там уж дальше как пойдет. Не прав, вероятно, я. И кое-кто может меня осудить, заявив на такие мои слова, если бы услышал, что же ты, мол, парень, как девка бесперспективная себя ведешь, борись, мол, за свою любовь, за свое счастье, за жизнь добрую и незлобливую. А если ей любви моей не надо? Зачем тогда мне, ее любящему, ломать ее, жизнь ей портить, топтать се, в пыль изводить? Я бы так сумел. Кто бы сомневался.
Но не хочу…
Разумеется, Ника не могла заниматься со мной любовью, когда рядом, там, через стенку, совсем близко, так близко, что тепло его она ощущала и дыхание слышала, и Даже сны его – догадывалась – смогла бы вместе с ним -увидеть, спал тот, который был так похож, как две капли воды, на ту РАДОСТЬ единственную, что в жизни ее случилась, на брата любимого, божественного. Ника улыбнулась тихо, про себя, блаженно и умиротворенно. Ведь сложись по-иному, она не сомневалась в том нисколько, и у них с братом все пошло бы, как им хотелось, и вместе бы они оказались, то никогда и ни в какие времена ей никто уже, кроме него, не был бы нужен, да и не взглянула бы она ни на кого никогда и уж тем более не позволила к себе никому прикоснуться, не говоря уж даже о дружеских поцелуях и тем более не говоря уже о постели. Чур, чур, меня! Зачем? Если у нее все есть – все, все, все, – о чем только можно мечтать. Есть ТОТ, ради которого она живет. И есть ТО, ради чего люди и рождаются на этот свет – ЛЮБОВЬ. И не было бы, конечно, можно и не повторять, у нее в жизни стольких мужчин и стольких женщин. Незачем. Незачем. Если и появлялось у нее к кому-то какое-то чувство (после того, как стали тихнуть воспоминания о брате), так то только от безнадежья и отчаяния ожидания. И чаще благодаря воображению и фантазиям неудержимым – хотелось ведь, ну, конечно же, хотелось, тепла и участия, и уюта. Ну, а кому же не хочется? То-то и оно.