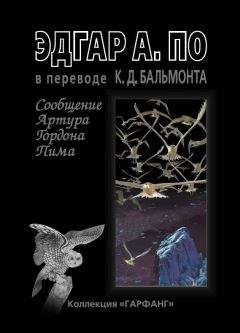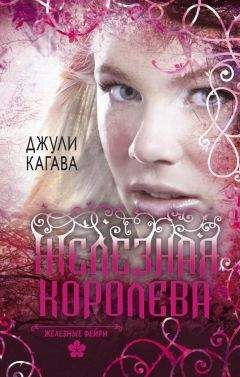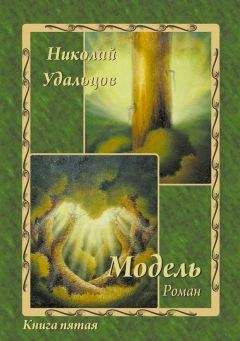Эдгар По - Заколдованный замок (сборник)
Теперь у меня не было ни малейших сомнений, что я вижу все отчетливо, тем более что первая вспышка света, озарившая это полотно, рассеяла дремотное оцепенение, которое владело всеми моими чувствами, и вернула меня к реальности.
Портрет, как уже было сказано, изображал молодую девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой «виньеточной» манере, во многом напоминающей манеру Салли[208]. Ее руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальной, густо позолоченной, покрытой мавританским орнаментом тонкой работы. Трудно представить себе произведение искусства прекраснее этого портрета. Но ни мастерство художника, ни нетленная красота изображенного им облика не могли так внезапно и сильно взволновать меня. Не мог я принять в полудремоте это изображение и за живую женщину. Особенности рисунка, манера живописи, тяжелая рама мгновенно разрушили бы подобную иллюзию и не позволили бы поверить ей ни на миг.
Я упорно размышлял об этом в течение целого часа, то полусидя, то полулежа, но не отрывая от портрета напряженного взгляда. Наконец, разгадав подлинный секрет производимого портретом эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня совершенным, поистине невероятным жизнеподобием, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и даже страх. Полный трепетного благоговения, я вернул канделябр на прежнее место. Теперь, уже не видя того, что так глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержавший описания картин и их историю. Отыскав номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие весьма странные слова:
«Она была девушкой редчайшей красоты, и была столь же очаровательна, как и весела. Но злым роком был отмечен тот час, когда она встретила и полюбила живописца и стала его женой. Одержимый, упорный, суровый, он уже был обручен с Живописью; она же, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела в этом мире одну лишь Живопись, свою соперницу, боялась только палитры, кистей и красок, лишавших ее возлюбленного. Она поневоле испытала ужас, узнав, что живописец вознамерился написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и покорна и много недель неподвижно просидела в высокой башне, где только сверху просачивался свет, падая на бледный холст. Художник вложил весь свой гений в эту работу, что длилась из часа в час, изо дня в день. Одержимый, необузданный, угрюмый, он всецело предавался своим мечтам, не замечая, как от жуткого света в одиноко стоящей башне тают душевные силы и здоровье его жены, как она на глазах увядает. Это видели все, кроме него. А она все улыбалась и улыбалась, не проронив ни слова жалобы, ибо видела, что художник, чья слава была уже велика, черпает в своем труде жгучее упоение и работает днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его, но с каждым днем становилась все бледнее и слабее. Те, кому довелось видеть портрет, шепотом говорили о сходстве как свидетельстве и могучего дара живописца, и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством.
Но когда работа уже близилась к концу, доступ посторонним в башню был закрыт, потому что художник в пылу труда впал в исступление, граничащее с безумием, и редко отрывал свой взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. Он не желал видеть, как оттенки, наносимые им на холст, отнимаются у той, что сидела напротив него. И когда минули долгие недели и лишь немногое осталось довершить — всего лишь положить один мазок на уста и один блик на зрачок, душа красавицы снова вспыхнула, как угасающий светильник, выгоревший до конца. И вот кисть коснулась холста, и полутон был положен, и блик заиграл там, где ему надлежало быть. На мгновение художник остановился, охваченный восторгом перед собственным творением, и, все еще не отрываясь от холста, вздрогнул, страшно побледнел и воскликнул: «Да ведь это же — сама Жизнь!», после чего стремительно обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную.
Она была мертва!
Сфинкс
Во времена, когда Нью-Йорк охватила ужасная эпидемия холеры, я принял приглашение одного своего родственника провести с ним пару недель в его уединенном уютном коттедже на берегах Гудзона. Здесь было все, что нужно для приятного летнего отдыха. Мы могли гулять по лесу, рисовать, кататься на лодках, ходить на рыбалку или купаться, слушать музыку или предаваться чтению и вообще приятно и безмятежно проводить время, если бы не ужасные новости, которые каждое утро приходили из огромного города. Не было и дня, чтобы мы не узнавали о том, что болезнь поразила кого-нибудь из наших знакомых. Затем, когда смертность повысилась, мы научились жить в ожидании утраты кого-то из друзей. Поэтому вскоре уже каждое новое появление вестника стало ввергать нас в страх. Нам стало казаться, что даже ветер, дующий с юга, несет в себе запах смерти. Эта неотступная гнетущая мысль полностью завладела мною. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем другом, она преследовала меня даже во сне. Хозяин мой был не таким впечатлительным человеком, как я, и, хоть и сам пребывал в довольно подавленном настроении, как мог старался подбодрить меня. Однако его тонкому философскому уму было свойственно сугубо реальное восприятие действительности. Он был знаком и с чувством страха, но без каких-либо отклонений.
Его попытки вырвать меня из состояния необычайного уныния, в которое я впал, не имели успеха, причиной чему были определенные книги, найденные мной в его библиотеке, которые могли пробудить к жизни заложенные в моей душе семена наследственных суеверий. Хозяин мой не знал, что я читал эти книги, поэтому часто не мог понять, откуда мне приходят в голову те или иные бурные фантазии.
Любимой темой наших разговоров в ту пору стала расхожая вера в плохие приметы — вера, которую в тот период своей жизни я даже почти готов был защищать. Тема эта часто становилась объектом долгих и оживленных бесед — он настаивал на совершенной беспочвенности подобной веры, я же возражал ему, доказывая, что то или иное общественное мнение, возникающее совершенно самопроизвольно (другими словами, если оно ни на чем не основано), должно содержать в себе неоспоримые элементы истины, почему и требует к себе уважения в той же степени, что и интуиция, являющаяся не чем иным, как отличительной особенностью гения.
Все это я говорю вот к чему: вскоре после моего приезда в коттедж со мной произошло нечто, настолько необъяснимое и по природе своей столь сходное с дурной приметой, что у меня были все основания всерьез посчитать это самым настоящим знамением. Случай этот потряс меня и одновременно настолько смутил и удивил, что прошло немало дней, прежде чем я решился заговорить о нем со своим другом.
Ближе к завершению необычайно жаркого дня я сидел с книгой в руке у окна, из которого открывался широкий вид на берега реки, на далекий холм, обращенную ко мне сторону которого то, что принято называть оползнем, лишило большей части деревьев. Мысли мои уже давно занимала не лежащая передо мной книга, а мрачный опустевший город. И вот, когда я поднял глаза, взгляд мой пал на голый склон холма и на некий объект — то было чудовище ужасного вида, которое быстро спускалось с вершины к основанию холма, пока наконец не скрылось внизу, в густом лесу. Как только я это увидел, первой моей мыслью было: не сошел ли я с ума или, по крайней мере, могу ли я верить собственным глазам? Прошло немало времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не спятил и не сплю. Однако боюсь, читателям моим будет труднее поверить в это, чем мне самому, когда я опишу монстра, которого видел совершенно отчетливо и успел хорошо рассмотреть за время его спуска.
Приблизительно сравнив размер этого создания с диаметром стволов больших деревьев, рядом с которыми оно прошло (теми несколькими гигантами, которых не затронула ярость оползня), я пришел к выводу, что оно намного крупнее любого существующего линейного корабля. Я сравниваю его с линейными кораблями, потому что сам общий вид этого чудовища наводил на мысль о них. Форма корпуса одного из наших семидесятичетырехпушечников может довольно сносно передать общий контур его тела. Рот животного располагался на конце хобота, который в длину имел футов шестьдесят-семьдесят, а по толщине мог сравниться с телом среднего слона. Начало этого ствола было густо покрыто черной косматой шерстью (ее было больше, чем на шкурах нескольких бизонов), и из шерсти этой торчали нацеленные вниз и в стороны два блестящих клыка, напоминающих клыки дикого кабана, только несравнимо большего размера. Параллельно с хоботом, слева и справа от него, шли два гигантских образования длиной тридцать или сорок футов, по виду очень похожие на чистый кристалл и имеющие форму идеальной призмы — в них удивительно красиво отражались лучи заходящего солнца. Тело имело клинообразную форму, острым концом обращенную к земле. Из него торчало две пары крыльев (каждое длиной почти сто ярдов), причем одна пара располагалась над второй и обе были покрыты густой сияющей металлическим блеском чешуей, каждая чешуйка — не меньше десяти-двенадцати футов в диаметре. Я заметил, что верхние и нижние слои крыльев соединялись крепкой цепью. Однако главной особенностью этого жуткого создания было изображение мертвой головы, которое сверкало белизной на его темной груди, занимая почти всю ее площадь, и было настолько четким и правдоподобным, будто его вывела кисть художника. Вглядываясь в это страшилище, и особенно в изображение у него на груди, я, охваченный ужасом и ощущением надвигающегося зла, которое не мог подавить силой разума, вдруг увидел, как громадные челюсти на конце хобота разверзлись, и из них исторгся звук столь громкий и столь скорбный, что я задрожал, точно услышав похоронный звон, и, прежде чем чудище скрылось среди деревьев у подножия холма, без чувств рухнул на пол.