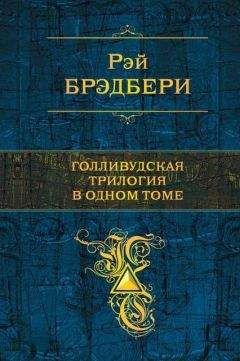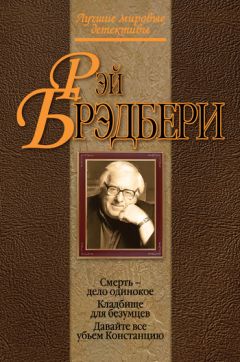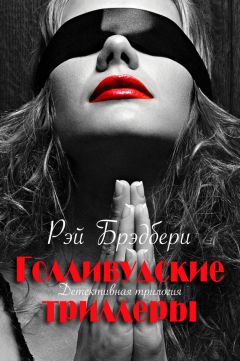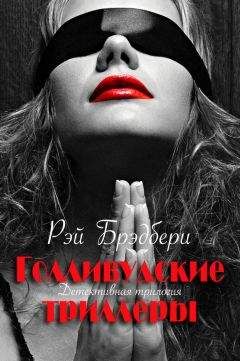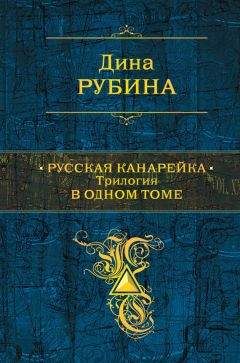Рэй Брэдбери - Голливудская трилогия в одном томе
– Кладбище призраков. Я сам их так назвал, когда мне было лет шесть. Был в кино, прокрался за экран – и увидел всех этих черно-белых тварей изнутри. Представляешь, перед тобой огромный Фантом[349], который играет на органе, а потом сбрасывает маску и вырастает еще больше, во весь экран, и хочет убить тебя взглядом… И все это двигается прямо у тебя перед глазами – серое, полуразмытое… И ты знаешь, что эти актеры давно умерли… Что они – настоящие призраки. И они прямо рядом с тобой…
– И ты рассказал об этом своим предкам?
– Обижаешь.
– Благоразумный мальчик… Чем-то таким восточным потянуло. Мы уже у Граумана? Сразу чувствуется. Не какая-нибудь тебе дешевая забегаловка.
– Сюда. Давай подержу дверь.
– Э, да тут темнотища. Фонарик взял? Надо всегда ходить и размахивать фонариком, чтобы все думали, что ты крутой.
– Вот фонарь, Генри.
– Говоришь, призраки?
– Тридцать лет по четыре сеанса в день.
– Не надо придерживать меня за локоть. Я так чувствую себя беспомощным. А если упаду, лучше сразу пристрели!
И он пошел сам, почти не касаясь кресел, по направлению к оркестровой яме и дальше – туда, где шумел бескрайний черный океан.
– Здесь что – еще темнее? Дай-ка включу фонарик.
Он нажал на кнопку.
– Ну вот, – улыбнулся он. – Так-то лучше.
Глава 30
В цокольном этаже совсем не было освещения. И по всему коридору – комнаты, комнаты, комнаты… Все увешанные зеркалами, в которых множились и дробились блики. И пустота – целое море безжизненной пустоты…
Мы вошли в первую, самую большую. Генри встал посередине и пустил луч фонаря по кругу, как будто это был луч маяка.
– Да тут и правда их полно…
Луч захлебнулся и потонул в океанских глубинах.
– И они здесь другие – чем наверху. Словно еще призрачнее. Меня всегда смущали зеркала и то, что принято называть отражением. Как будто это ты – но еще один… Где-то там, подо льдом, метра полтора в глубину… – Генри протянул руку и коснулся зеркальной поверхности. – Эй, есть тут кто?
– Только ты, Генри, – ты и я.
– Проклятье… Хотел бы я знать это наверняка.
Мы двинулись вдоль холодной череды зеркал.
И они, призраки, не заставили себя ждать. Причем не просто призраки. Вполне реальные надписи. На зеркалах. Наверное, я чересчур порывисто вздохнул, потому что Генри направил фонарик мне в лицо.
– Что – увидел там что-то, чего я не вижу?
– Да, черт возьми!
Я протянул руку к мертвяще-холодному окну в другое время.
На пальце остался след древней губной помады.
– Ну? – Генри наклонился вперед, как будто пытался что-то рассмотреть. – Что там?
– Марго Лоренс, R. I. Р.[350], октябрь, 1923.
– Кто-то прикопал ее здесь, за зеркалом?
– Не думаю. Вон там, выше на целый метр, еще одно: Хуанита Лопес, лето двадцать четвертого.
– Ни о чем не говорит.
– Следующее зеркало: Карла Мур, Рождество, двадцать пятый год.
– Есть! – сказал Генри. – Эту я помню. Фильм был немой, но один мой зрячий дружок читал мне титры. Точно – Карла Мур! И не в последней роли.
Я посветил фонариком.
– Элеонора Твелвтриз, апрель двадцать шестого, – прочитал я.
– Помнишь, «Кот и канарейка»[351] – но, кажется, там была… Хелен Твелвтриз?
– Может, это ее сестра? А может, и нет. Трудно сказать, когда кругом сплошные псевдонимы. Люсиль Лесюэр стала Джоан Кроуфорд[352], Лили Шошуан – Клодетт Кольбер[353], Глэдис Смит – Кэрол Ломбард[354]. А Кэри Грант[355] на самом деле был Арчибальдом Личем.
– Тебе пора вести телевикторину. – Генри вытянул руку. – А там что?
– Дженнифер Лонг, двадцать девятый год.
– Она ведь, кажется, не умерла?
– Ну да, она пропала. Примерно тогда же, когда ангелы спели аллилуйя сестричке Эйми[356].
– Много их там еще?
– Столько же, сколько зеркал.
Генри облизнул палец.
– А помада-то ничего! Отлично сохранилась. А какого цвета?
– Эта – «Оранж», от Tangee. А это «Летний зной», от Coty, а вот эта – Lanvier, «Вишня».
– Интересно знать, для чего эти милые дамы написали здесь свои имена и даты смерти?
– Боюсь, Генри, что это сделали вовсе не сами «милые дамы»… Все это – дело рук одной единственной милой… женщины.
– Женщины, но не дамы? Ага… Подержи-ка мою трость, я должен подумать.
– У тебя же нет трости, Генри.
– Правда, забавно, когда твоя рука ощущает предметы, которых нет? Ну, ладно. Хочешь, чтобы я сам догадался?
Я молча кивнул – зная, что Генри этого не увидит, но все равно вычислит по движению воздуха. Мне хотелось, чтобы он сам произнес это имя – именно он. Генри лучезарно улыбнулся – и зеркала ответили ему не менее чем сотней улыбок.
– Констанция… – Он дотронулся до холодного зеркала. – Та самая Раттиган.
Глава 31
Генри еще раз провел пальцем по красному следу от помады, после чего дотронулся до губ.
Потом перешел к следующей надписи и попробовал ее на язык.
– Между прочим, вкус разный, – сказал он.
– Так же, как и у женщин… – заметил я.
– Все возвращается[357]…– Он прищурил глаза, как будто смотрел куда-то вдаль. – Господи, сколько женщин прошло через мои руки и через мое сердце. Я их не видел – они приходили, уходили… И у каждой был свой запах. А теперь – все возвращается. Все просто ходит по кругу. У меня такое чувство, что я сосуд, который заткнули пробкой.
– У меня тоже такое чувство.
– Брось! Крамли говорит, если ты отвинчиваешь вентиль, лучше отойти в сторонку. Ты у нас пацан что надо.
– Я не пацан!
– Вот-вот… Именно так говорят пацаны лет в четырнадцать, когда у них ломается голос и начинают расти усы.
Он снова вернулся к зеркалу, тронул пальцем помадный след и уставился незрячим взглядом на остатки древнего вещества.
– Значит, думаешь – Констанция?
– Не думаю – чую.
– Чуйка у тебя мощная, нечего сказать… Это я еще по твоей писанине понял – мне читали. Знаешь, маманя моя как говорит? «Одна хорошая чуйка – лучше, чем два мозга». Народ-то все больше мозгом пользуется – вместо того чтобы прислушаться к тому, что сидит под ребрами. Как его там? Гонг… нет, ганг… Ганглий, что ли? Но маманя по-другому его называет – паучок внутри. Как только она видит какого-нибудь долбаного политика, у нее сразу открывается чуйка – где-то в районе желудка. Если паук там шебуршит, то она улыбается, и это значит – да. А если сжимается в комочек, то она глаза прикрывает, это значит – нет. И у тебя эта штука тоже есть. Моя мать тебя сразу раскусила, по книжкам. Говорит, рассказы у него странные (по-моему, она хотела сказать – страшные), и пишет он их не серым веществом. И он умеет дергать своего паука за лапки – вот что сказала моя… маманя. «Этот парень никогда не будет болеть, его никогда никто не отравит, потому что он все выблюет, и он знает, как растормошить своего паука». А еще сказала – этот не станет по ночам заниматься всяким непотребством, чтобы состариться молодым. Он мог бы стать хорошим врачом – кто знает, как найти болячку, вырвать ее, а потом выбросить.
– Она что, правда так говорила? – У меня покраснели щеки.
– Такая у меня маманя. Родила двенадцать детишек, схоронила шестерых – остальных вырастила. Два мужа, один – дурной, другой – хороший. Во всем до тонкости разбиралась, знала даже, на каком боку надо лежать в постели, чтобы запора не было…
– Жаль, что я не был с ней знаком…
– Она всегда здесь… – Генри приложил ладонь к груди.
Затем он снова вгляделся в невидимые зеркала и, вынув из кармана черные очки, протер их и надел.
– Так получше. Черт. Раттиган с этими надписями… она что – совсем там съехала? Хотя, положа руку на сердце, – была ли она когда-нибудь нормальной?
– Бывает иногда. В открытом море. Я слышал, она плавает там с морскими котиками, тявкает вместе с ними по-тюленьи. Вольная душа[358].
– Ну и оставалась бы там.
– Типа, второй Герман Мелвилл? – усмехнулся я.
– Извини, не расслышал?
– Да это я читаю «Моби Дика» – уже лет пять… Мелвиллу надо было оставаться в море – со своим любимым дружком Джеком. На берегу у него душа разрывалась на части. Он и не жил – просто старел и двигался к смерти. Тридцать лет неизвестно зачем проторчал на таможенном складе…
– Жаль сукина сына, – сказал Генри.
– Да, жаль сукина сына, – тихо повторил я.
– А Раттиган? Ей, что ли, тоже лучше жить в море, а не в этом роскошном доме на берегу?
– Роскошный, большой, белый… Все правильно. Только это не дом. Это – гробница, в которой живут призраки из кинопроектора. Огромные – сорок футов в высоту и пятьдесят лет в ширину. Как в тех фильмах на большом экране. Как в старых зеркалах… И еще – одинокая баба, которая почему-то их всех ненавидит…
– Да, жаль сукина сына, – сказал Генри.
– Да и суку тоже… – добавил я.