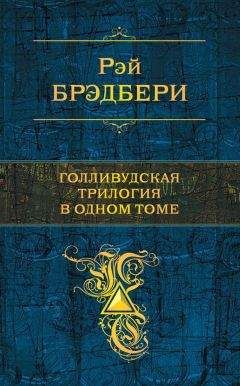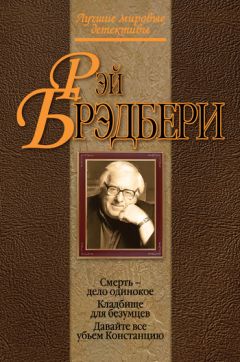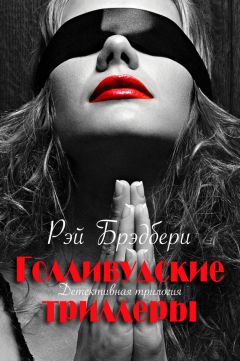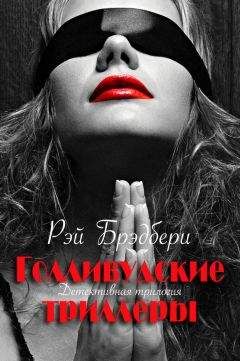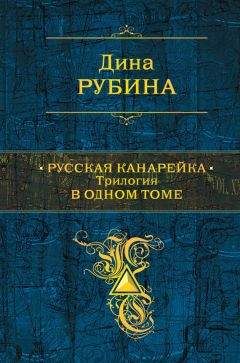Рэй Дуглас Брэдбери - Голливудская трилогия в одном томе
— Черт. Проверим-ка снова Калифию.
Мы стали листать обратно и нашли ее, жирно подчеркнутую красным и с крестом.
— И это значит?..
— Тот, кто подсунул книжку Констанции, сперва пометил фамилии красными чернилами и крестом, а потом расправился с двумя первыми жертвами. Может. Винтики у меня совсем застряли на месте.
— Ага, понадеялся, что Констанция еще до убийства обнаружит красные кресты, запаникует, что и произошло, и неумышленно прикончит жертвы своими воплями. Господи Иисусе! Проверим другие отметки и крестики. Проверим Святую Вибиану.
Крамли перевернул страницу и проговорил едва слышно:
— Красный крестик.
— Но отец Раттиган еще жив! О черт!
Я поплюхал по песку к бассейну, где у Раттиган был телефон. Набрал номер Святой Вибианы.
— Кто? — спросил резкий голос.
— Отец Раттиган? Слава богу!
— За что?
— Это приятель Констанции. Полудурок.
— Черт побери! — воскликнул священник.
— Не принимайте сегодня больше исповедей!
— Это приказ?
— Отче, вы живы! То есть, я хотел сказать, если мы можем что-нибудь сделать, защитить вас или…
— Нет, нет! — послышалось в трубке. — Отправляйтесь в ту, другую, языческую церковь! Где «Джек и бобовый стебель»!
В телефоне запикало.
Мы с Крамли обменялись взглядами.
— Посмотри Граумана, — предложил я.
Крамли посмотрел.
— Китайский, ага. И фамилия Грауман. И красный кружок с крестиком. Но он уже не один год как умер!
— Да, но там хранится Констанция или запечатлена в бетоне. Я тебе покажу. Последняя возможность посмотреть «Джек и бобовый стебель».
— Если подгадаем ко времени, — сказал Крамли, — фильм уже закончится.
ГЛАВА 19
Оказалось, подгадывать ко времени нет необходимости.
Когда Крамли высадил меня перед фасадом другой церкви, киношного собора, большого, шумного, беспокойного, романтического, обмоченного слезами… На красной китайской двери красовалось объявление «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ», туда и обратно сновали рабочие. На внешнем дворе несколько человек переступали ногами, соизмеряя их с отпечатками.
Высадив меня, Крамли был таков.
Я обернулся поглядеть на обширный, в стиле пагоды, фасад. Десять процентов Китая, девяносто — Граумана. Маленького Сида.
Он был, говаривали, от горшка два вершка, почти карлик, восьмой жевун лилипутского кино, вместилище ростом в четыре фута, набитое обрывками кинофильмов и фонограммами, Конг, вопящий на Эмпайр-Стейте, Колман в Шангри-Ла, [405]приятель Гарбо, [406]Дитрих [407]и Хепберн, [408]галантерейщик Чаплина, партнер по гольфу Лорела и Харди, [409]хранитель огня, носитель памяти о прошлом десятка тысяч человек… Сид, что лил бетон, собирая оттиски подошв, с каблуками и плоских, Сид, просивший и получавший автографы на тротуаре.
Передо мной простирался поток застывшей лавы, где призраки былого запечатлели размер своих стоп.
Я понаблюдал за туристами, которые, негромко смеясь, сличали свои подошвы с великим множеством бетонных отпечатков.
Вот так церковь, думал я. Верующих побольше, чем в Святой Вибиане.
— Раттиган, — шепнул я. — Ты здесь?
ГЛАВА 20
Как уже говорилось, у Констанции Раттиган ножка была самая маленькая во всем Голливуде, а может, и в мире. Туфли ей шили в Риме и дважды в год посылали авиапочтой, потому что старые таяли в шампанском, пролитом безумными поклонниками. Маленькие ножки, изящные пальчики, крохотные туфельки.
Это доказывали ее отпечатки, оставленные на Граумановом бетоне вечером 22 августа 1929 года. Примерившись к ним и убедившись в постыдно-гигантской величине своих стоп, девицы удалялись с отчаянием в душе.
И вот, странной ночью, я находился один в Граумановом переднем дворе, единственном месте в мертвом, непогребенном Голливуде, куда приносят на продажу мечты.
Толпа рассеялась. В двадцати футах от меня виднелись отпечатки Раттиган. Я взглянул и застыл на месте.
В отпечатки Раттиган как раз ступал человечек в черном непромокаемом пальто и в надвинутой по самые брови широкополой шляпе. — Господи Иисусе, — вырвалось у меня, — как раз!
Человечек опустил взгляд на свои крохотные ботинки. Впервые за сорок лет в следах Раттиган кто-то уместился.
— Констанция, — шепнул я.
Человечек дернул плечами.
— У тебя за спиной, — шепнул я.
— Вы из них? — прозвучало из-под широкополой черной шляпы.
— Из кого?
— Ты — Смерть, что за мной охотится?
— Я просто друг, пытаюсь тебе помочь.
— Я ждала тебя. — Ноги, утвердившиеся в следах Констанции Раттиган, не сошли с места.
— Что это значит? — спросил я. — К чему эта игра в кошки-мышки? Ты так напугана или шутки шутишь?
— Почему ты так говоришь? — спросил потаенный голос.
— Силы небесные, может, все это дешевый трюк? Кто-то предположил, что ты хочешь написать автобиографию и тебе нужен помощник. Если ты выбрала меня, то благодарствую, нет. У меня есть дела поважнее.
— Что может быть важнее меня? — Голос сделался тоньше.
— Ничего, но вправду ли за тобой гоняется Смерть или ты нацелилась на новую жизнь, а какую, знает один Бог?
— Что может быть лучше, чем бетонная покойницкая дяди Сида? Все имена, а под ними ничего. Спрашивай дальше.
— Ты собираешься повернуться ко мне лицом?
— Тогда я не смогу говорить.
— Цель затеи в том, чтобы я помог тебе раскопать твое прошлое? Сокровищница наполовину полная или наполовину пустая? Кто сделал красные отметки в Книге мертвых — кто-то другой или ты сама?
— Другой, как же иначе. Отчего меня, по-твоему, бросило в дрожь? А эти отметки, мне нужно было найти их всех, узнать, кто уже умер, а кто только собирается. Было у тебя когда-нибудь чувство, что все вокруг рушится?
— Только не у тебя, Констанция.
— Господи, да! Иной раз засыпаешь ночью Кларой Боу, а просыпаешься Ноем, упившимся водкой. От моей красоты остались одни воспоминания?
— Очаровательные воспоминания.
— Но все же… — Раттиган оглядела Голливудский бульвар. — Когда-то здесь ходили настоящиетуристы. А теперь вокруг рваные рубашки. Все потеряно, юноша. Венисский мол затоплен, фуникулерные пути вросли в землю. «Голливуд и Вайн», [410]да было ли все это?
— Было. Некогда. Когда в «Коричневом котелке» [411]оклеивали стены шаржами на Гейбла и Дитрих, а в метрдотелях служили русские князья. Роберт Тейлор и Барбара Стэнвик разъезжали в спортивных автомобилях. [412]«Голливуд и Вайн»? Ты поселялся здесь, и тебе открывалось, что такое чистая радость.
— Красивая речь. Хочешь знать, где мамочка побывала?
Она шевельнула рукой. Достала из-под пальто несколько газетных вырезок. Я заметил слова «Калифия» и «Маунт-Лоу».
— Я был там, Констанция, — произнес я. — На старика обрушился стог газет и раздавил его. Боже, выглядело это как разлом Сан-Андреас. [413]Сдается мне, кто-то подтолкнул штабеля. Не самое достойное погребение. А Царица Калифия? Падение с лестницы. И твой брат, священник. Ты побывала у всех троих, Констанция?
— Я не обязана отвечать.
— Задам другой вопрос. Ты себя любишь?
— Что?!
— Смотри. Я себя люблю. Я не совершенство, боже упаси, но мне не случалось затаскивать женщину в постель, зная, что ей это может выйти боком. Куча мужчин сказали бы, пользуйся случаем, живи на всю катушку! Но я не такой. Даже когда мне это подносят на блюдечке. Грехов я не накопил, поэтому и кошмары мне почти никогда не снятся. Конечно, бывало в детстве, я убегал от бабушки, обгонял ее на несколько кварталов, и она приходила домой в слезах. До сих пор не могу себе простить. Или ударил своего пса, всего один раз, но ударил. Прошло тринадцать лет, а мне все еще больно. Список невелик, на ночные кошмары не тянет, правда?
Констанция стояла как застывшая.
— Боже, боже, — проговорила она, — мне бы твои сны.
— Проси, одолжу.
— Несчастное бессловесное дитя, глупое и невинное. За это я тебя и люблю. Удастся ли мне где-то у небесных врат получить чистые ангельские крылья в обмен на свои черные, как сажа у меня в камине, кошмары?
— Спроси своего брата.
— Он давно уже дал мне пинка, чтобы я катилась в ад.
— Ты не ответила на мой вопрос. Ты себя любишь?
— То, что вижу в зеркале, конечно, люблю. А вот то, что под стеклом, в глубине, меня пугает. Просыпаюсь среди ночи, а все это проплывает перед глазами. Господи, горе да и только. Не поможешь ли?
— Как? Мне не отличить одно от другого, тебя и твое отражение. Что на поверхности, что в глубине.
Констанция переступала с ноги на ногу.
— Не можешь стоять спокойно? — спросил я. — Если я скажу «красный свет», стой. Твои ноги завязли в бетоне. Ну что?