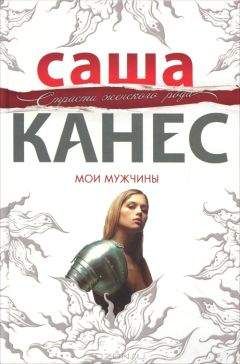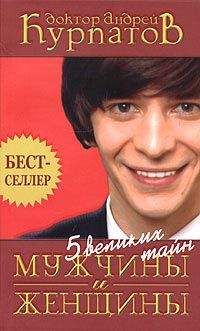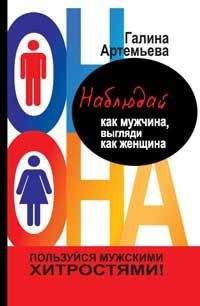Валентин Маслюков - Зеленая женщина
Аня молча стояла.
Все рассыпалось — ей не за что было Колмогорова уцепить.
За двадцать три года в театре у Колмогорова не появилось ни одной любовницы, за ним не числилось ни одной супружеской измены вообще. Они с Майей представляли собой единственную в своем роде пару: множество народу успело за это время сойтись и разойтись, не уцелело, кажется, ни одной балетной семьи, кроме этой. Стойкая верность Колмогорова вызывала даже недоумение. Чтобы задуматься, стоило только оглянуться по сторонам да присмотреться к собственным балетам Колмогорова, полным напряженной, почти мучительной по силе выражения страстности. И нужно представить себе эту домашнюю простоту нравов, когда хорошенькие женщины в мишурных нарядах, отдуваясь за кулисами, поправляют мимоходом трусы и резинки и, бессильно сложившись пополам, головой к полу, расслабляются в немыслимых даже на пляже позах. Представить эти гримерки, где допоздна горит свет, где ночует сбежавший из дома артист, а молоденькие девочки из кордебалета, вчера только попавшие в театр, со сладостным чувством приобщения к чему-то по-настоящему взрослому робко приоткрывают дверь туда, где раздаются азартные разговоры, хохот, где дым коромыслом и на столе стаканы. То запертые, то незапертые двери. Эти прикосновения… то грубые до боли объятья, поддержки, подхваты, то нежные касания, которые приходится повторять, перебирая оттенки чувственности и так и эдак. Этот воспаленный легкой хронической лихорадкой быт, когда одни сходятся, другие расходятся, третьи нуждаются в утешении, а четвертые без затей просчитывают карьеру через постель. Сверх того, поглощая и обнимая собой весь этот взволнованный и ужасно тесный, непоправимо обнявшийся, переплетенный руками, ногами мир, — сверх того художественный инстинкт, имеющий не только право, но даже как бы и обязанность свободных движений души. По общепринятому на этот счет мнению, во всяком случае. Известно, что сосредоточенный на себе, на тончайших переливах своих ощущений творческий человек следует все новым и новым влечениям, как сомнамбула, сознающая себя лишь в момент пробуждения. Но Колмогоров, казалось, существовал в какой-то иной реальности. Не было у него ничего сверх балета или вместе с балетом. Ничего отдельного, рядом. Только балет. В своем предельном, очищенном от примесей, выражении. Про Антонову, наверное, нельзя было бы этого сказать. Кое-что у нее было и рядом с балетом. Не много, но было. Сейчас, однако, не осталось ничего иного и у нее. Осталось одно — балет. Тут они с Колмогоровым сходились.
Разница между ними состояла в том — и сейчас эта разница с очевидностью проступила, — что Колмогоров, в отличие от Антоновой, не нуждался в разговорах. Он все видел, со всеми перекинулся словом, слышал поразительные признания, испытал жестокие разочарования, пожимал руки бессчетному множеству мировых знаменитостей и давно утратил интерес к знаменитостям, к интересным людям и собеседникам — никакие разговоры сами по себе не увлекали его, если только они не прилагались тем или иным боком к делу. Он считал годы и не разбрасывался на постороннее. Он давно уже, много лет не смотрел телевизор просто так, без особого случая, без необходимости, и смотрел ровно столько, от сих до сих, сколько это было необходимо, чтобы уяснить себе суть. Очень часто для этого хватало нескольких минут. Он работал без выходных. Он не коллекционировал бабочек, значки, не ходил за грибами, не ездил на рыбалку, не охотился, не имел никаких особых увлечений. Он не водил знакомств в театральных кругах города, не бывал в гостях у коллег и не приглашал никого домой. Вот здесь-то они и расходились с Аней до полной противоположности. Если ей чего по-настоящему не хватало, так это хорошей не балетной компании, занимательных собеседников и разговоров.
Подлинное желание ее сейчас было поговорить. Она любила балеты Колмогорова, любила его адажио, как не любила саму себя, потому что эти балеты, эти адажио, эти лирические напевы были частью ее самой, лучшей ее частью, были приближением к чему-то высшему, надличному, чему-то такому что ставило ее вровень с Колмогоровым и еще выше, да, выше, шире, просторнее… И тем более она злилась на Колмогорова, что он не признавал за ней права на равенство, тем более злилась, что она могла бы, она готова была любить его так же, как любила его балеты. Если бы он только — всего лишь — он когда-нибудь с нею неспешно, не страдая от пауз поговорил.
— Вы кричите, — начала она подрагивающим, склочным голосом, оглушительно громким, будто она кричала, голосом, — вы кричите на людей. Такие вопли! Вы такой… человек… в таком возрасте и не можете сдержаться. Крепостной театр!
Она повернулась уйти. Спасение ее было в одном — уйти прежде, чем он скажет слово и она взорвется.
— Почему вы не на уроке? — громко сказал он.
— Потому что меня трясет! — огрызнулась она.
— Вернитесь! — жестко сказал он.
Она вернулась.
— Представьте бюллетень!
— Представлю!
Все болезни на сцене проходят. Ноют связки, температура — человек вступает в огненный круг сцены — и все забыто. Все это скажется потом, за кулисами, когда закроется занавес, и тем сильнее скажется, чем больше сценическое забвение. После войны был случай, балерина сломала ногу и смазала тур. Балетмейстер, за кулисами, не понимая, что произошло (это не успела осознать и сама балерина), прошипел, едва сдерживая голос: повторить! Она вернулась, повторила на сломанной стопе, покинула сцену и потеряла сознание… Но, если верно, что болезни на сцене отступают, то верно и обратное: человек оставляет сцену и его одолевает слабость. Так это бывало с Антоновой.
Обычно она вставала в шесть утра, недосыпала, успевала переделать мимоходом кучу домашних дел и, преодолевая раз за разом себя, жила в таком постоянном напряжении, что хранила, несмотря на усталость, и ясную голову, и бодрость. Но стоило расслабиться, как все валилось из рук.
После столкновения с Колмогоровым она поехала домой, вызвала врача из «лечкомиссии», где стояла на учете как заслуженная артистка, и пожаловалась на ломоту в теле, головную боль и упадок сил. Врач предположил грипп.
Аня спала по десять часов в сутки и не могла оторвать от подушки чугунную голову. Ничем не интересовалась, ничего для себя не решала и влачила растительное существование. Едва хватало сил выпроводить Настю в школу и дойти до ближайшего магазина. Пару раз звонил Виктор, вызывался навестить, но шалости его не доставляли ей радости, она отнекивалась. Дни уходили. Она чувствовала, что проснуться уже не в силах, но утомилась и спать. Между тем исподволь нарастало чувство вины, в скуку ее вторгалась тревога. На душе становилось погано. Несмотря на сомнения врача, она закрыла бюллетень, поднялась по будильнику в шесть утра и поехала, зевнув раз-другой, в магазинчик «Хлеб». Она пошла на урок к Раисе, в первый зал, и уже через четверть часа, ощущая сопротивление разучившегося тела, окончательно очнулась.
Все, что было неделю назад, подернулось туманом. Она как будто не помнила. С некоторым внутренним напряжением она встретила в коридоре Колмогорова и бесцветно, без выражения поздоровалась. Он ответил вежливо, даже сердечно и замялся что-то добавить. Но не добавил. Надо было понимать так, что никогда уже и не скажет.
Потом она столкнулась с Генрихом, которого бессознательно избегала. Тот шумно обрадовался.
Вечером, после репетиции, Аня поднялась к Генриху в мастерскую.
Напротив входа стояла на мольберте картина. Затиснутая в узкое полотно зеленая женщина с густым черным лоном.
— Почему она зеленая? — Аня оглянулась на Генриха, который за ней наблюдал.
— Цвет не имеет значения, — быстро отозвался он. — Важны оттенки.
Аня вернулась к картине. Она не понимала, плохо это или хорошо, потому что не имела других критериев, кроме своих ощущений. Ощущение же говорило ей только то, что от этой изломанной женщины нельзя просто так отмахнуться. Как нельзя отмахнуться от темных неясностей жизни.
Она знала, что Генрих ждет замечания по существу, и знала, что в таких случаях говорят, растягивая: интере-есно… Однако она удержалась, не стала поминать интерес, а решила составить общий обтекаемый комплимент позднее, когда посмотрит другие картины, — из тех, что стояли на шкафах и у стены.
Казалось, автор многократно переходил из одного творческого периода в другой. Менялась тональность, степень проработки деталей и, вероятно, техника — хотя об этом Ане трудно было уже судить. Представлены были тут вполне традиционные портреты и пейзажи, оставлявшие впечатление добросовестно исполненных упражнений, — ранний период художника. Имелись намеренно раздробленные сюжеты, которые перекладывали труд воображения на зрителя. Картины не только другой манеры, другой, казалось, руки, но, другого, мнилось, и века. Были тут опять же заглаженного письма химеры, уроды и уродства в невероятных нагромождениях и сочетаниях. Но и то, и другое, и третье — ничто не задерживало Аню, не давало ей случая остановиться и помечтать. Мешал к тому же и взгляд Генриха, который она встречала, мельком оглянувшись. Без чувства же, не отдаваясь свободно ощущениям, она не понимала картины. «Человек-выставка», внезапно подумала она. И сразу же усомнилось, что Генрих поймет эти слова как комплимент. Если уж она сама их так не понимала.